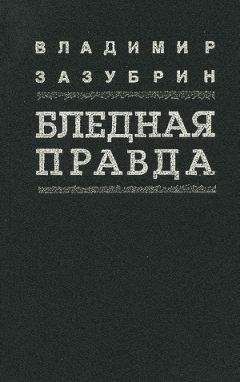В Зазубрин - Щепка
II
Бледной лихорадкой лихорадило луну. И от лихорадки, и от мороза дрожала луна мелкой дрожью. И дрожащей, прозрачно искристой дымкой вокруг нее ее дыхание. Над землей оно сгущалось облаками грязноватой ваты, на земле дымилась парным молоком.
На дворе в молоке тумана рядами горбились зябко-синие снежные сугробы. В синем снегу, лохмотьями налипшем на подоконники, лохмотьями свисавшем с крыш, посинели промерзшие белые трехэтажные многоглазые стены.
И в бледной лихорадке торопливости лица двоих в разных желтых (ночь, впрочем, и черных) полушубках, стоящих на грузовике, опускающих в черную глотку подвала петли веревок, ждущих с согнутыми спинами, с вытянутыми вперед руками.
Подвал издыхает или кашляет:
- Тащи-т-и-и.
И выдохнутые или выплюнутые из дымящейся глотки мокроты или слюной тягучей, кроваво-сине-желтой, теплой тянутся на веревках трупы. Как но мокроте, по слюне, ходили по ним, топтали их, размазывая по грузовику. Потом, когда выше бортов начали горбиться спины трупов, стынущие и синеющие, как горбы сугробов, тогда брезентом, серым, как туман, накрывали грузовик. И стальными ногами топал и глубоко увязал в синем снегу, ломая спины сгорбившихся сугробов, и хрусте снежных костей, в лязге железа, в фыркающей одышке мотора, в кроваво-черном поту нефти и крови грузовик уходил за ворота. Шел серый в сером тумане на кладбище, сотрясая улицы, дома, поднимая с кроватей всезнающих обывателей. К замерзшим стеклам притыкались, плющились заспанные носы. И в дрожании коленок, в дроже кроватей, в позвякивании посуды и окон заспанные загноившиеся глаза раскрылись от страха, заспанные вонючие рты шептали бессильно-злобно, испуганно:
- Чека... Из Чека... Чека свой товар вывозит...
И на дворе тоже ногами (только не стальными, а живыми, человечьими, при этом сильно уставшими) ломали с хрустом синие горбы сугробов-Срубов, Соломин, Мудыня, Боже, Непомнящих, Худоногов, комендант, двое с лопатами и конвоиры (конвоирам уже некого было конвоировать). Соломин шел со Срубовым рядом. Остальные сзади. У Соломина кровь на правом рукаве шинели, на правой стороне груди, на правой щеке-в лунном свете, как сажа. Говорил он голосом упавшим, но бодрым, говорил, как говорят люди, сделавшие большую, трудную, но важную и полезную работу.
- Каб того высокого, красивого, в рот-то которого стреляли, да спарить с синеглазой - ладный бы плод дали.
Срубов посмотрел на него. Соломин говорил спокойно, деловито разводил руками. Срубов подумал: "О ком это он?" Но понял, что о людях. Усталыми глазами заметил только, что у чекиста на левой руке связка крестиков, образков, ладанок. Спросил машинально:
- Зачем тебе их, Ефим? Тот светло улыбнулся.
- Ребятишкам играть, товарищ Срубов. Игрушек нонче не купишь. Нету-ка их.
Срубов вспомнил, что у него есть сын Юрий, Юрасик, Юхасик. Сзади со смехом матерились. Вспоминали расстрелянных.
- Поп-то расписался... А генерал-то... Срубов устало зевнул. Обернулся бледный.
- Таких веселых, как в пенсиях, завсегда лекше бить. А уж которы воют...
Это Наум Непомнящих. Боже и согласен и нет.
Говорили с удалью, с лихо поднятыми головами.
Усталый мозг напрягся с усилием. Срубов понял, что все это напускное, показное. Все смертельно устали. Головы задирали потому, что они, свинцовые, не держались прямо. И матерщина только чтоб подбодриться. Всплыло в памяти иностранное слово-допинг.
До кабинета Срубов шел очень долго. В кабинете заперся. Повернул ключ и внимательно посмотрел на дверную ручку-чистая, не испачкана. Оглядел у лампы руки- крот; не было. Сел в кресло и сейчас же вскочил, нагнулся к сиденью-тоже чистое. Крови не было ни на полушубке, ни на шапке. Открыл несгораемый шкаф. Из-за бумаг вытащил четверть спирта. Налил ровно половину чайного стакана. Развел отварной водой из графина. Болтал замутненную жидкость перед огнем. Напряженно оглядывался через стекло-красного
ничего не было. Жидкость постепенно стала прозрачной. Поднес стакан ко рту и опять в памяти -допинг.
Только когда выпил и прошелся по кабинету-заметил, что от двери к столу, от стола к шкафу и обратно к двери его следы шли красной пунктирной линией, замыкавшейся в остроугольный треугольник.
И сейчас же с письменного стола нахально стала пялиться бронза безделушек, стальной диван брезгливо поднял тонкие гнутые ножки. Маркс на стене выпятил белую грудь сорочки. Увидел - разозлился.
- Белые сорочки, товарищ Маркс, черт бы вас побрал. Со злобой, с болью схватил четверть, стакан, тяжело подошел к дивану. "Ишь жмется, аристократ. На вот тебе". Нарочно сапоги не снял. Растянулся и каблуками в ручку. На пепельно голубой обивке грязь, кровь и снежная мокрота. Четверть, стакан рядом на пол поставил. А самому .хочется с головой в реку, в море и все, все смыть. Уже лежа еще полстакана в рот жгучего, неразведенного. И в мозгу, пьянеющем от спирта, от подвального угара, от усталости, от бессонницы почти пьяные, почти бессвязные мысли:
- Почему, собственно, белая сорочка Маркса?
Ведь одни из них-поумереннее и полиберальнее-хотели сделать Ей аборт, другие-пореакционнее и порешительнее-кесарево сечение. И самые активные, самые черные пытались убить и Ее и ребенка. И разве не сделали так во Франции, где Ее, бабу, великую, здоровую, плодовитую, обесплодили, вырядили в бархат, в бриллианты, в золото, обратили в ничтожную, безвольную содержанку.
Потом, что такое колчаковская контрреволюция? Это небольшая комната, в которой мало воздуха и много табачного дыма, водочного перегара, вонючего человечьего пота, в которой письменный стол весь в бумагах-чистых и исписанных, в бутылках-пустых и непочатых со спиртом, с водкой, в нагайках - ременных, резиновых, проволочных, резиново-проволочно-свинцовых, в револьверах, в бебутах, в шашках, в гранатах. Нагайки, револьверы, гранаты, винтовки, бебуты и на стенах и на полу, и на людях, сидящих за столом и спящих под ним и около него. Во время допроса вся комната пьяная или с похмелья набрасывается на допрашиваемого с ремнями, с резинами, с проволокой, со свинцом, с железом, с порожними бутылками, рвет его тело на клочья, порет в кровь, ревет десятками глоток, тычет десятками пальцев с угрозой на дула винтовок.
Колчаковская контрразведка-еще другая комната. В той письменный стол в зеленом сукне и бумагах. За столом капитан или полковник с надушенными усами, всегда вежливый, всегда деликатный-тушит папиросы о физиономии допрашиваемых и подписывает смертные приговоры.
Ну, вот вам и белая сорочка Маркса, брезгливый диван, чопорная чистота безделушек на столе.
Ну да, да, да, да, да... Да... Да... Да... Но... Но и но...
Сладко пуле-в лоб зверя. Но червя раздавить? Когда их сотни, тысячи хрустят под ногами и кровавый гной брызжет на сапоги, на руки, на лицо.
А Она не идея. Она-живой организм. Она-великая беременная баба. Она баба, которая вынашивает своего ребенка, которая должна родить.
Да... Да... Да...
Но для воспитанных на римских тогах и православных рясах Она, конечно, бесплотная, бесплодная богиня с мертвыми античными или библейскими чертами лица в античной или библейской хламиде. Иногда даже на революционных знаменах и плакатах Ее так изображают.
Но для меня Она-баба беременная, русская широкозадая, в рваной, заплатанной, грязной, вшивой холщовой рубахе. И я люблю Ее такую, какая Она есть, подлинную, живую, не выдуманную. Люблю за то, что в Ее жилах, огромных, как реки, пылающая кровяная лапа, что в Ее кишках здоровое урчание, как раскаты грома, что Ее желудок варит, как доменная печь, что биение Ее сердца, как подземные удары вулкана, что Она думает великую думу матери о зачатом, но еще не рожденном ребенке. И пот Она трясет свою рубашку, соскребает с нее и с тела вшей, червей и других паразитов-много их присосалось-в подпалы, в подвалы. И вот мы должны, и вот я должен, должен, должен их давить, давить, давить. И вот гной из них, гной, гной. И вот опять белая сорочка Маркса. А с улицы к окну липнет ледяная рожа мороза, ломит раму. И за окном термометр, на который раньше смотрел купец Иннокентий Пшеницын, падает до минус сорока семи Р.
В кабинете Иннокентия Пшеницына, теперь Срубова, мутный рассвет. Но дом Иннокентия Пшеницына, теперь Губчека, не знает, не замечает рассветов, сумерек, ночей, дней-стучит машинками, шелестит бумагой, шаркает десятками ног, хлопает дверьми, не ложится, не спит круглые сутки.
И в подвалах No 3, 2, 1, где у Иннокентия Пшеницына хранились головы сыру, головы сахару, колбасы, вино, консервы, теперь другое. В No 3 в полутьме на полках, заменяющих нары, головами сыра-головы арестованных, колбасами -колбасы рук и ног. Как между головами сыра, как между колбасами, осторожно, воровито шмыгают рыжие жирные крысы с длинными голыми хвостами. Арестованные забылись чуткой дрожащей дремотой. Чуткой дрожью усов, ноздрей, зорким блеском глаз щупают крысы воздух, безошибочно определяют уснувших более крепко, грызут у них обувь. У подследственной Неведомской отъели мех с высоких теплых галош.