Севостьянов Г.Н. - Москва - Вашингтон: Дипломатические отношения, 1933 - 1936
Неопределенность в развитии советско-американских отношений вызывала разочарование у отдельных сотрудников американского посольства в Москве. Некоторые воспринимали это даже несколько болезненно. Так, в начале октября первый секретарь Джордж Хэнсон в мрачном настроении покинул Москву. По прибытии в США Хэнсон, неудовлетворенный пребыванием в Москве, повел себя странно и несколько вызывающе. На приеме в октябре в Русско-американской торговой палате он скептически отзывался о возможностях развития советско-американской торговли и советовал не рассчитывать на советские заказы. Будучи в нетрезвом состоянии, он произнес скандальную речь: "Вы хотите с большевиками торговать? Бросьте, у них нет денег". Президент палаты Хью Купер и "Нэшнл Чейз Банк" были возмущены таким поведением Хэнсона. Они выразили протесты. Однако 7 ноября на приеме в советском генконсульстве в Нью-Йорке он также сделал ряд недостойных заявлений, за что получил выговор госдепартамента. В Советский Союз его больше не посылали, а назначили первым секретарем и генеральным консулом в дипломатическую миссию в Эфиопию. На пути в Аддис-Абебу он получил срочную телеграмму с уведомлением, что его отправляют генконсулом в Салоники. Для него это было полной неожиданностью. Он был потрясен. Оскорбленный Хэнсон, который отличался тщеславием и непомерным самолюбием, не выдержал удара судьбы и покончил самоубийством82. Никто не предполагал такого печального исхода. 1 декабря 1934 г. нарком внешней торговли А.П. Розенгольц информировал Сталина о том, что несколько американских банков изъявили готовность предоставить долгосрочный кредит в сумме 250 млн долл. для закупки товаров в США. Проценты за кредит советская сторона предлагала не выше 5 —5!/2%83. Казалось, предложение было заманчивым и достойно внимания, но оно не получило одобрения. Прошло немногим более двух недель, и 16 декабря А.П. Розенгольц обратился с письмом к Сталину (копию он направил Молотову) с предложением перейти на покупки импортных товаров в США за наличный расчет, как это было сделано и в Англии. Это объяснялось тем, что условия для покупки товаров в кредит оказались крайне неблагоприятными. Переплаты в цене за товары достигали 15%84. Таким образом, после восстановления дипломатических отношений между СССР и США значительного улучшения в области торговли не произошло. В 1934 г. товарооборот сократился и составил всего 27,3 млн долл. В частности, экспорт советских товаров в США равнялся 12,3 млн долл., а импорт из Америки — 15 млн долл.85 Характерно, что почти вдвое возрос американский экспорт в СССР, главным образом за счет промышленного оборудования, станков, автомашин и транспортных средств. Американцы закупали антрацит, марганцевую и железную руду, платину, лен, крабов. Американские власти создавали искусственные трудности при поступлении советских товаров на рынок США, отказывали в займах и кредитах. Экспортно-импортный банк не намерен был предоставлять кредиты Советскому Союзу. Рузвельт и Хэлл считали невыгодным давать кредиты Москве перед промежуточными выборами в конгресс. Вообще президент не проявлял большого интереса к вопросам торговли с СССР в сравнении с прошлым годом. В 1934 г. на складах Амторга накопилось большое количество товаров. На 1 января 1935 г. осталось не реализовано спичек на 100 тыс. руб. и минералов на 17 тыс. руб.8 6 Американский исследователь Дж. Боу справедливо отмечает, что процветания торговли с Советским Союзом после его признания Соединенными Штатами не последовало. Причины тому — закон Джонсона, отказ Советскому Союзу в кредитах, предоставление европейскими государствами более выгодных условий торговли с СССР. И все же многие фирмы давали кредиты Амторгу, несмотря на отказ банков учитывать векселя этого основного агента на американском рынке87. Можно сказать, что 1934 г. принес разочарование в области состояния торговли между США и СССР. Никакого соглашения им не удалось заключить. Надежды Москвы и Вашингтона не оправдались. Россия нуждалась в финансах для экономического развития. Она готова была уплатить военные долги, но при условии предоставления займов и кредитов. Поэтому Литвинов постоянно и настойчиво спрашивал: будут ли даны долгосрочные кредиты. К его удивлению, следовал ответ: нет. Американское правительство соглашалось только на краткосрочные кредиты и при высоких процентах. Выявившиеся разногласия по вопросу уплаты долгов Керенского и взаимные претензии серьезно осложнили торговлю между двумя странами. Без получения кредитов трудно было говорить о ее расширении. Вначале, казалось, были созданы благоприятные условия для развития взаимовыгодных торговых и экономических отношений. Советское правительство уделяло большое внимание этому вопросу. Оно понимало, что политическое сближение между двумя государствами требовало прежде всего экономической основы, в частности расширения торговли. Однако кредитная политика США этому не способствовала. Закон Джонсона явился серьезным препятствием на пути развития советско-американской торговли.
Кремль обеспокоен
Осенью 1934 г. отношения между СССР и США развивались неблагоприятно. Расчеты Москвы на политическое сближение и сотрудничество не оправдались. Не сбылись надежды на улучшение торговли. Переговоры о долгах и кредитах постигла неудача. Накопилось много нерешенных проблем, омрачавших недавние радужные прогнозы. Это побуждало советское правительство к налаживанию сотрудничества с другими странами. В сентябре 1934 г. 30 государств, членов Лиги наций, пригласили Советский Союз вступить в нее с целью придать ей больший вес в мировых делах. Видя ее многочисленные недостатки, советское правительство, тем не менее, решило стать членом международного форума. Исходя из концепции неделимости мира, оно считало, что обеспечение безопасности государств возможно только объединенными усилиями всех стран. Вступление СССР в Лигу наций способствовало повышению его престижа и создавало более благоприятные условия для укрепления всеобщего мира и предотвращения войны. Предпринятый по инициативе М.М. Литвинова шаг советской дипломатии улучшал международное положение Советского Союза и содействовал окончанию его изоляции. Выступая 18 сентября 1934 г. на пленуме Лиги наций, Литвинов призвал не забывать уроки первой мировой войны и подчеркнул необходимость сотрудничества всех государств в деле защиты мира. Он предупредил о нарастании опасности, обусловленной количественным и качественным ростом вооружения, огромным увеличением его разрушительного потенциала. Декларации о миролюбии не могут обеспечить безопасность народам. Необходимы более существенные гарантии, решительные меры и средства для сохранения мира. И Лига наций призвана это сделать. Это ее прямая и святая обязанность. Длительный мир может быть обеспечен лишь усилиями всех народов и государств. Говоря о важном политическом акте — вступлении СССР в Лигу наций — видный американский дипломат Самнер Уэллес впоследствии писал: «Когда Советский Союз присоединился к Лиге наций, даже самые неисправимые упрямцы были вынуждены признать, что из больших держав он один отнесся к Лиге наций со всей серьезностью... Сегодня, окидывая взором прошлое, приходится признать, что Литвинов был единственным выдающимся европейским государственным деятелем, который последовательно и правильно оценивал обстановку в период между двумя войнами. Это Литвинов постоянно настаивал на том, что "мир неделим", что Устав Лиги наций осуществим, если только европейские державы будут соблюдать все его постановления, и что во все нарастающем хаосе и неразберихе катастрофа неизбежна, если не применять санкций, указанных в Уставе. Все годы, что Литвинов представлял советское правительство в Лиге наций, он употреблял свои недюжинные способности, чтобы Лига наций себя оправдала». Такова была высокая оценка деятельности Литвинова в Лиге наций. Говоря о намерении Советского Союза вступить в Лигу наций, известный дипломат царского правительства В.А. Маклаков писал Е.В. Саблину в Лондон, что большевикам не на кого рассчитывать, они серьезно обеспокоены сговором Польши с Германией и понимают, что реальной помощи от Франции, которая не собирается воевать из-за Украины, они не получат. По его мнению, Польша вряд ли осмелится бросить вызов Советскому Союзу, если он станет членом Лиги наций. Интересно мнение и американского посла в Токио Джозефа Грю, который после речи Литвинова на Ассамблее Лиги наций в Женеве 18 сентября сообщал из Токио в Вашингтон: вступление СССР в Лигу наций имеет большое значение. Япония покинула Лигу и оказалась в "блестящей изоляции". СССР же, напротив, усилил свое влияние в Европе, повысил роль в международных делах. Признание американским правительством СССР и его вступление в Лигу заставят Японию, отмечал посол, серьезно задуматься об ее отношении к советскому государству. С этим в будущем не могут не считаться ни ближайшие советники императора, ни министерство иностранных дел при разработке политической линии в отношении Советской России3. Как известно, идея создания Лиги наций принадлежала президенту США Вудро Вильсону. Но американский сенат отклонил ратификацию Версальского договора, и США не вошли в состав Лиги. Не была приглашена в нее и Советская Россия. Отсутствие в этой международной организации двух великих держав суживало ее возможности. К тому же сам статут Лиги имел ряд недостатков. В частности, все решения ее Ассамблеи и Совета, за исключением процедурных вопросов, должны были приниматься единогласно, что на практике парализовывало работу. Уставом Лиги гарантировалась политическая независимость и территориальная целостность всех ее членов, безопасность против агрессии извне, но не было предусмотрено, как это должно конкретно проводиться. Констатировалось лишь, что если не будет достигнуто единогласие по спорному вопросу, тогда члены Лиги могут решать его самостоятельно. В этом, как показала история, проявилась ее слабость. Обстановка в мире в это время была сложной. Германия вооружалась и призывала к ревизии Версальской системы. Советское правительство вело переговоры с Францией о заключении Восточного пакта с участием в нем Германии, СССР, Польши, Чехословакии, Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. В Лондоне отнеслись к этому осторожно, заняв выжидательную позицию. Германия негативно встретила эту идею. Польша последовала ее примеру. Пилсудский был против сближения Франции с СССР. В этом случае Польша, по его мнению, теряла значимость в европейских делах, в чем он был заинтересован. Не случайно, летом 1934 г. министр иностранных дел Ю. Бек посетил Эстонию и Латвию с тем, чтобы договориться с правительствами этих стран не присоединяться к Восточному пакту. 27 июля между Германией и Польшей было достигнуто соглашение о противодействии его заключению. В случае его подписания Гитлер и Пилсудский намеревались оформить военный союз, чтобы противостоять СССР и Франции, присоединить к нему Японию, а также вовлечь в сферу своего влияния Венгрию, Румынию, Латвию, Эстонию и Финляндию. Дипломатия Берлина и Варшавы проявляла большую активность в этом направлении, постоянно обсуждая различные комбинации, направленные на срыв Восточного пакта. Не бездействовала и дипломатия Токио. 8 июля в Польшу с трехдневным визитом прибыл брат японского императора принц Коноэ для ознакомления с состоянием ее военной подготовки. В сентябре Варшаву посетила японская военная миссия во главе с начальником авиационной школы генералом Харута. 11 ноября советник полпредства СССР в Польше Б.Г. Подольский сообщал заместителю наркома Б.С Стомонякову, что японский генштаб осуществляет широкое наблюдение за СССР из Прибалтийских стран и Польши, "польская военная и металлургическая промышленность имеет японские заказы". Советник констатировал, что заказано уже 100 тыс. винтовок. Япония приобрела у Польши лицензии на истребитель П-7. Ее предприятия выполняют военные заказы на трубы, стальной прокат, бронеплиты и турбины.
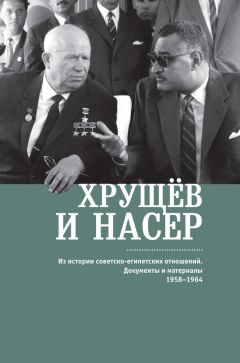
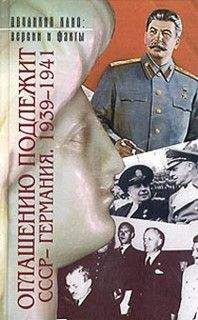
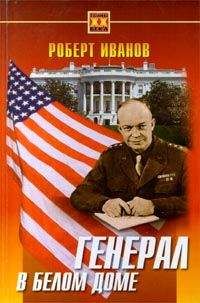
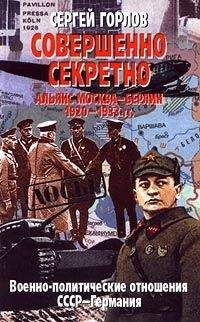
![Анатолий Добрынин - Сугубо доверительно [Посол в Вашингтоне при шести президентах США (1962-1986 гг.)]](/uploads/posts/books/36343/36343.jpg)