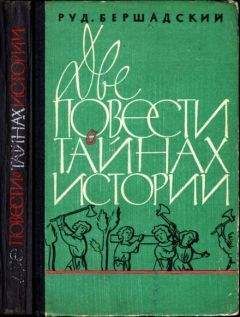Е Мурина - Ван Гог
Наиболее значительная из этих работ "Колыбельная" - самая вангоговская вещь из этого цикла, над которой он много работал (существует пять вариантов), и вместе с тем вещь, наиболее органично претворившая то, что дал ему Гоген.
Вслед за Гогеном Ван Гог ставит здесь вопрос о стиле как вопрос о синтезе - синтезе, вбирающем все то, что он на данный момент вкладывает в свое понимание искусства. Это попытка найти доведенную до полной сжатости и ясности стилистическую формулу. Взяв за основу вещи портрет мадам Рулен, которую неоднократно писал, в том числе с младенцем на руках ("Мадам Рулен с ребенком", F490, Филадельфия, Художественный музей), Ван Гог находит сюжетно-психологическую мотивировку стиля задуманной вещи в литературе. Вместе с Гогеном они читали роман Пьера Лоти "Исландский рыбак", и это чтение дало толчок его воображению: "По поводу этой картины я как-то заметил Гогену, что, поскольку мы с ним часто говорим об исландских рыбаках, об их меланхолическом одиночестве и полной опасностей жизни в безрадостном море, мне, как следствие этих задушевных бесед, пришла мысль написать такую картину, чтобы, взглянув на нее в кубрике рыбачьего судна у берегов Исландии, моряки, эти дети и мученики одновременно, почувствовали, что качка судна напоминает им колыбель, в которой когда-то лежали и они под звуки нежной песенки" (574, 442). В то же время Ван Гог говорил о том, что на возникновение замысла "Колыбельной" оказал влияние и "Летучий голландец" Вагнера, о музыке которого Ван Гог вообще часто думал, работая над цветом своих полотен 54.
Естественно, что поиски стиля требуют отталкивания от каких-то уже существующих стилевых канонов, сложившихся не вчера и не сегодня. Ван Гог находит этот "канон" в лубке, порожденном стихией народного фольклора, близкой ему по духу. Монументальность примитива, делающего откровенную ставку на силу и лапидарность изображения, имеющего готовую семантическую "репутацию", вдохновляет его на создание своего лубка - "Колыбельной", которую Ван Гог мыслит включенной наряду с "Подсолнухами" в декорацию, образующую "нечто вроде люстр или канделябров, приблизительно одинаковой величины, и все это в целом состоит из 7 или 9 холстов" (574, 442-443).
Как разновидность изобразительного фольклора такой образ функционален как по содержанию, так и по форме. Эта картина, как и лубок, должна заявить о себе сразу, потом ее можно разглядывать, но уже мгновенный взгляд должен сразу уловить, в чем дело. Все, что изображено, дает мощный зрительный сигнал. Пространство здесь предельно сплющено, преувеличенно женственные формы кормилицы трактуются как округлые плоскости, двухмерность которых подчеркнута энергичной контурной обводкой. Эта распластанная фигура, органично включенная в орнаментальную роспись фона, читается, как плоскостная формула Женщины, первозданно наивный символ женственности. Ван Гог и стремился к тому, чтобы это был образ, какой возникает "у не имеющего представления о живописи матроса, когда он в открытом море вспоминает о женщине, оставшейся на суше" (582, 454).
"Колыбельная" как бы вновь возвращает Ван Гога к нюэненским надличным, "архетипным" образам. Он подчеркивает в изображении что-то исходное, нерушимое и надежное в этой всемирной качке, извлекаемое из сознания, где хранятся "первоэлементы" важнейших жизненных представлений - образ целительницы тоски и страха, теплой ласковой няньки, кормилицы-утешительницы, доведенный до сгущенной изобразительной магии.
Во всех вариантах картины кормилица держит в руках веревку, за которую обычно качают колыбель и которая располагается на ее коленях в направлении рамы навстречу зрителю, как "пуповина", как "символ связи матери и ребенка, зрителя и картины, художника и модели" 55.
Идея лубочности завершает вангоговское преодоление ренессансной концепции пространства с его методом перспективного построения картины. Единственный элемент, где допущен момент иллюзии объема, - лицо кормилицы имеет чисто смысловое значение: выделить его как содержательный центр композиции, имеющей две линии горизонта и противостоящей реальному пространству.
Важно и медленно, как геральдические узоры, в укачивающем ритме расцветают на зеленом фоне яркие гирлянды цветов. В разных вариантах "Колыбельной" эти узоры то гуще и пестрее, то реже и сдержаннее, но главное то, что плотный активный фон создает не иллюзорное, а "мифическое" пространство - сжатое, сказочно яркое и красочное, превратившееся в чистую функцию содержания (характерно для народного искусства, иконы, средневековой живописи).
Вместе с тем только такой предметно-активный фон может достойно поддержать все те "негармонирующие цвета - резкий оранжевый, резкий розовый, резкий зеленый", на противоречиях которых строится вещь.
Эти трубные, резкие звуки, поддержанные "бемолями красного и зеленого, так же, как и музыка Вагнера", должны апеллировать к интимным, сокровенным, таящимся в глубине человеческого сознания представлениям, чем менее сознаваемым, тем более мощно управляющим влечениями и чувствами. Ван Гог претендует в данном случае не на симфонию, а всего лишь на "нежную песенку", живущую с колыбели в душах мужчин под грубыми покровами, защищающими незабываемые детские впечатления. Пробиться сквозь них к этой человеческой сердцевине и поддержать в минуту отчаяния и усталости - вот какая мечта воодушевляет его говорить языком лубка.
По-видимому, мысль написать такой фон возникла у Ван Гога под влиянием Гогена, который в своем "Автопортрете", присланном ему в подарок, изобразил обои с цветами как "символ девственности", то есть "первобытности" новых художников. Правда, Гоген чаще предпочитал окружать человека откровенно "мифологической", экзотической средой как в Бретани, так тем более в тропиках. Ван Гог предпочитает "преображать" фон в такое отвлеченно мифологическое пространство, символизирующее его отношение к образу. Так он использует этот прием в некоторых портретах, сделанных уже в больнице. Например, "Портрет доктора Рея" (F500, Москва, ГМИИ им. А. С. Пушкина), "Портрет почтальона Рулена с цветами на фоне" (несколько вариантов, F435, Мерион, Пенсильвания, вклад Барна; F436, Цюрих, частное собрание; F439, музей Крёллер-Мюллер). Фон здесь служит, как и в "Колыбельной", "функционально" содержательным фактором - выражением любви, преданности, восхищения перед человечностью человека. В самом деле, почему не выразить ему свою признательность и благодарность доктору Рею, проявившему столько чуткости и внимания к нему во время болезни, в виде этого фона, проросшего узорами и орнаментами, какими когда-то расшивали царственные одежды. Почему не расцветить яркими гирляндами фон на портрете Рулена, этого единственного арльского друга, принимавшего его таким, каков он есть, и украсившего его жизнь в Арле добротой и гостеприимством? Ведь цветы так много значили в его жизни, что они должны достаться и его друзьям.
Уже незадолго до конца Ван Гог, возвратившись мыслями к "Колыбельной", делает признание, разъясняющее сокровенную природу его "лубочных" приемов: "Признаюсь - да ты и сам видишь это по "Колыбельной" при всей слабости и неудачности этого опыта, - что если бы у меня хватило сил продолжать в том же духе, я стал бы, пользуясь натурой, писать святых обоего пола, которые казались бы одновременно и людьми другой эпохи и гражданами нынешнего общества и в которых было бы нечто, напоминающее первых христиан" (605, 492).
В целом этот гогеновский период "сочинения" картины остается все же эпизодом в его жизни. Он писал об этом позднее Бернару: "Когда Гоген жил в Арле, я, как тебе известно, раз или два позволил себе увлечься абстракцией - в "Колыбельной" и "Читательнице романов"... Тогда абстракция казалась мне соблазнительной дорогой. Но эта дорога - заколдованная, мой милый: она сразу же упирается в стену" (Б. 21, 565).
Между тем самые взаимоотношения с Гогеном, принявшие довольно скоро тяжелый характер в силу несовместимости этих столь различных людей, окончились трагически, что имело, как известно, роковые последствия для Ван Гога.
Позднее, когда уже накал страстей утих, он, не имея особенного зла против Гогена, все же писал о нем: "Я не раз видел, как он совершает поступки, которых не позволил бы себе ни ты, ни я, - у нас совесть устроена иначе". При этом он считал, что его бывший друг "не только ослеплен очень пылким воображением и, может быть, тщеславием, но в известном смысле и невменяем" (571, 436). Как уже писалось, Ван Гог испытывал к Гогену двойственные чувства: он восхищался им как художником, подчинялся ему как сильной личности, но не мог не испытывать критических эмоций по отношению ко многому, что открылось в процессе их совместной жизни и что подтверждало его предположение относительно расчетливости Гогена и неразборчивости в средствах. Впрочем, у него всегда хватало объективности отнестись к Гогену, как он того заслуживал. "Искусство требует вкусов поестественнее, а характера пострастнее и повеликодушнее, чем у дохлого декадента завсегдатая парижских бульваров. Так вот, у меня нет ни малейшего сомнения в том, что рядом со мной живет сейчас девственная натура с инстинктами настоящего дикаря. У Гогена честолюбие отступает на задний план перед зовом крови и пола" (Б. 19-а, 562).