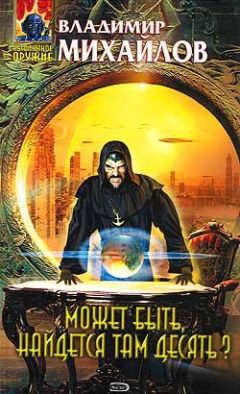Майкл Дэвид-Фокс - Витрины великого эксперимента. Культурная дипломатия Советского Союза и его западные гости, 1921-1941 годы
Тем не менее даже и те гости, кто был свободен от таких императивных интересов, позднее, в 1930-х, нередко проявляли сочувственное внимание, например, к коллективизации в деревне. Американский специалист по авиации профессор Чарльз Тейлор, живший в США в большом фермерском доме, рассуждал в беседах с гидом о том, как бы ему хотелось, да обстоятельства не дают, бросить свои материальные блага ради участия в коммунистическом движении. Посетив в 1937 году колхоз «Пионер» на Рязанском шоссе, он не только восторгался его цветущим состоянием, но и твердил, что колхозную систему, невзирая на отличие политической системы, надо внедрить и в США. Ему, однако, было неловко признать, что рядовые колхозники лучше него знают книги Теодора Драйзера. В то же время для иностранцев были обычным делом попытки обменять свою благосклонность к СССР на престижный статус в глазах советских хозяев. Одним из многих подобных гостей был литовский профессор, интересовавшийся мичуринской биологией, который в 1935 году посетил колхоз «Ильич» и предложил увеличить урожаи в десять раз. Ничуть не удивившись, председатель колхоза ответствовал, что он уже запланировал двадцатикратное увеличение{348}.
Опираясь на количественный анализ объектов, посещавшихся иностранцами по линии ВОКСа в 1935 году, Шейла Фицпатрик предположила, что восторженные отзывы обуславливались не только идеологическими или политическими симпатиями. Она доказывает, что типы объектов, демонстрировавшихся иностранцам, а также люди, с которыми те общались на приемах, неизменно были подчеркнуто «авангардными» как в эстетическом, так и в социальном смысле (это касалось даже колхозов){349}. Фицпатрик делает важное наблюдение: постоянное заметное участие гигантов авангардистского искусства, таких как Всеволод Мейерхольд, в приемах в честь иностранцев и впечатление новизны и продвинутости, которое гости получали от посещений социальных и медицинских учреждений, очень помогали добиться положительных откликов. Государственная поддержка науки была не единственной чертой советского строя, которая импонировала многим ученым — симпатизантам СССР в межвоенный период: совпадение революции в «большой науке» после Первой мировой войны и большевистского этатистско-революционного устремления к созданию новых институтов привело к основанию ряда специализированных исследовательских учреждений в 1920-х годах, которые стали «первыми в мире» в новых областях науки{350}.
Менее ясно, насколько действительно авангардными были такие новосозданные учреждения, как Музей революции или Институт Маркса и Энгельса, тесно связанные с марксистско-ленинской идеологией и посещавшиеся многими иностранцами. Более того, одновременно с демонстрацией модернизма Советский Союз постоянно притязал на роль наследника высокой русской культуры (с образчиками которой иностранцы знакомились при посещении, например, Большого театра). В то же время объекты социализма должны были восхищать широкий круг иностранцев, и отделить их социальное или культурное измерение от политического при таком тесном переплетении нелегко. Возможно, единственная общая черта всех мест, демонстрировавшихся иностранцам, — это то, что каждое из них являлось советским и вместе с тем было (или должно было быть) исключительным в своем роде.
А значит, вопрос о том, насколько данные объекты были исключительны, становится довольно важным; учесть надо и то, что природа этой исключительности варьировалась. Например, учреждения, именовавшиеся «образцовыми» или «образцово-опытными», могли быть названы так на волне административного строительства, начавшегося после 1917 года, а не потому, что позднее оказались привязаны к культпоказам. Начальная школа № 25 в Москве, которую в 1932 году посетил высокопоставленный чиновник Министерства образования Турции, интересовала также и многих других педагогов и гостей{351}. Остальные школы, объявленные «образцовыми» после 1931 года, не имели финансирования и репутации школы № 25, которая была, вероятно, самой знаменитой школой в СССР — в ней учились дети высшей партийной элиты, включая сына и дочь Сталина, а также дети «друга СССР» Поля Робсона и иностранных коммунистов Клемента Готвальда и Пальмиро Тольятти.
Как предположил Ларри Холмс, политические перемены, приведшие к созданию образцовых школ, были связаны с выдвижением на первый план героев, сотворенных сталинской идеологией как раз в то время. Резолюция ЦК от 5 августа 1931 года, требовавшая от Наркомпроса создавать «образцовые» начальные школы, была в особенности связана с общим отказом от атаки на традиционные учреждения и от «уравниловки» 1928–1931 годов. Школа № 25 стала ведущим актором в этом процессе пересмотра образовательного экспериментализма 1920-х. Иностранцам, конечно, показывали исключительный объект. Однако школа была вполне репрезентативна в смысле того нового упора на дисциплину, упорядоченность и зубрежку, который возобладал в сталинской системе образования. Статус образцового учебного заведения, присвоенный школе № 25, был значим для советской педагогики: школа оказывала влияние на различные повороты в советской политике образования по всей стране. Данная школа не создавалась специально для иностранных глаз, но посещения зарубежных наблюдателей (в этом и других случаях) стали важным фактором закрепления за ней статуса образцовой{352}.
Советский Союз начал создавать образцовые объекты с таким размахом не в последнюю очередь потому, что советское развитие, в котором война против отсталости сочеталась со скудостью ресурсов и авангардной идеологией, не могло не требовать концентрации на отдельно взятых секторах. Создание моделей отвечало и глубинной советской политической логике обучения посредством сигналов и официального одобрения; образцы давали реальный, живой материал для футуристической культуры, предвосхищая централизирующие и сакрализирующие черты социалистического реализма сталинской эпохи. Необходимость являть миру конкретные образы прогресса стала еще одним фактором, подстегнувшим создание нетипичных для всей системы моделей; в свою очередь, щедрые восхваления со стороны иностранцев укрепляли авторитет учреждений, уже объявленных особыми.
Образцовые объекты были столь вездесущи в раннем Советском Союзе, что даже не было единообразия в присвоении им особого статуса. Если школы создавались после 1931 года как образцовые обычно с целью отойти от тенденции к «уравниловке» «великого перелома», то другим обычным способом институционализации подобных объектов было навешивание ярлыка «опытно-показательный». Первая трудовая колония под руководством Макаренко для реабилитации «нравственно неполноценных» подростков (она же — сельскохозяйственная Колония им. М. Горького) под Полтавой стала одним из двух образцово-показательных учреждений украинского Наркомпроса еще в 1923 году, когда Макаренко не собирался принимать иностранных туристов, а бился за продукты питания и предметы первой необходимости для своей колонии. Данный статус означал тогда лишь то, что это был прототип чего-то, не распространенного широко. Трудовые колонии для подростков выдвигались как альтернатива детдомам — на тот момент основному типу заведения для беспризорных детей. Методы, основанные на дисциплине и соревновательности, которые Макаренко впервые внедрил в Полтавской колонии, шли вразрез с тенденциями, господствовавшими в педагогике 1920-х годов. Позже Макаренко перешел в гораздо лучше оборудованную производственную Колонию им. Дзержинского, подчиненную ОГПУ, и вот она-то уже была одним из главных пунктов назначения для иностранных гостей. Именно там Макаренко встал на путь к всесоюзной славе, превратившей его в главного педагога сталинской эпохи{353}.
В свою очередь, Лефортовский изолятор может рассматриваться как в большей степени «витрина», чем образцовая модель; стандартный пункт осмотра для иностранцев, он, несомненно, специально содержался так, чтобы показать зарубежным гостям гуманные условия содержания заключенных и самый принцип их реабилитации. Переводчица Тамара Солоневич вспоминала, как она и двое чекистов сопровождали двух австралийцев в эту «показательную» тюрьму, где их тепло приветствовали и рассказали, что в СССР нет тюрем, а есть лишь исправительные дома с мастерскими, клубами, библиотеками и лекториями. Там присутствовали даже «образцовые» арестанты. Один из них, в ком Солоневич заподозрила подставного заключенного, говорил на хорошем французском с группой гостей из Франции. Действительно, один из гидов докладывал, что некий французский социалист и адвокат, вначале «замкнутый» и настроенный скептически, преисполнился энтузиазма относительно советских тюрем и исправительных учреждений после общения с франкоговорящими заключенными{354}. Однако арестанты, говорившие на иностранных языках, не всегда были подставными лицами — так, в 1927 году политзаключенные, владевшие немецким и французским, жаловались иностранцам на то, что их держат в тюрьме без предъявления обвинений{355}.