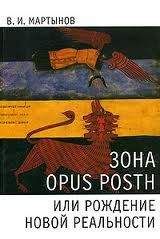Маремьяна Голубкова - Мать Печора (Трилогия)
По крепкому утреннику добрались мы до большого поселка Хорей-Вер. Дорога вела туда не по ровному месту, а через реки, хребты и горки.
Весна той порой заторопилась. Днем на улице стояли лужи, солнце разъело снег, все кругом засинело, проносный ветер дул с полуденной стороны. Только через трое суток край неба к вечеру побелел, ветер стих, на землю упал приморозок, и за нами пришли олени.
Дорога к Хоседа-Харду шла теперь через поселочки Митрофан и Егор-Вань. Стали чаще попадаться леса вдоль рек и ручьев. Лес здесь мелкий, елки не выше чума. На вторую ночь мы приехали в центр Большеземельской тундры - поселок Хоседа-Хард.
2
Хоседа-Хард запрятался от ветров в низкой ложбине на берегу реки Хоседа-Ю. Когда-то здесь была небольшая культбаза, а сейчас вырос районный центр со школой, библиотекой, больницей и типографией.
В типографии я нашла мою внучку Саню; она второй год работала там наборщицей и жила в общежитии вместе с другими девушками. Половина Хоседа-Харда была мне знакома, - все люди наезжие из наших печорских деревень.
Остановилась я у Мавры Никоновны Просвириной из Оксина, намылась в жаркой бане, каждый день ходила по гостям: тот зовет - не откажешься, и другого обидеть не хочется. Секретари райкома партии, Алексей Николаевич Крупин и Иван Филиппович Талеев, оказались моими старыми знакомыми.
Пришла я к ним в райком, предъявила свои документы.
- Найдем вам комнатку, - говорит Крупин, - только работайте.
Талеев давно знал Леонтьева и очень жалел, что тот потерял руку. Как только встречает меня, так и спрашивает:
- А ну, не приехал наш калека?
- Не видно что-то, - говорю, - может быть, и не приедет.
Крупин успокаивает:
- Вот подожди, скоро сюда аргиш** с рыбой придет, жди Леонтьева с ним.
Вскорости, верно, пришел аргиш с рыбой, а Леонтьева нет как нет.
Ночи побелели, солнце стало почти на округ ходить. По утрам над Хоседой летели лебеди, гоготали гуси, свистели утки. Река разлилась вровень с берегами, с часу на час ждали ледохода.
А Леонтьева все не было.
Как-то вечером на высоком левом берегу Хоседы показались две оленьи упряжки. Весь Хоседа-Хард высыпал на берег смотреть, как будут люди через такую погибель переезжать. Лед на Хоседе почти весь пронесло, вода бурлила в завертях, как в котле кипела.
- Как они переедут? - говорили люди. - Смотреть и то страшно.
И вот видим: ненец на том берегу дрова на нарты кладет. Потом он прошелся вдоль берега и везде хореем пробует: не остался ли где под водой лед? И верно, видим, нашел - в одном местечке лед уцелел. Он и худой, весь дырявый, а уж раз перевозу нет, переправляться как-то надо.
Видим, ступили приезжие на дрова и гонят оленей вводу. Кое-как, вполуплавь да в прискок, прибились олени к берегу. Переправа кончилась, и люди разошлись.
А я все в окно поглядываю: кто такой приехал?
Вот ненец мимо нашего дома оленей провел, олени мокрые и еле ноги волочат.
"Ну, - думаю, - оленеводы, видно, в магазин приехали".
Пошли мы в кино. У клуба идет навстречу какой-то человек. Идет прямо на меня и говорит:
- Что, Романовна, не признаешь?
Я и в самом деле не узнала Леонтьева: весь он почернел на ветрах да и в одежде незнакомой, и одежда-то мокрая. И первым делом смотрю: есть ли у него правая рука?
А он той рукой здоровается да так крепко жмет, ровно она и не болела у него.
Уселись мы у Мавры Никоновны и разговариваем обо всем, что за три года войны накопилось на сердце. Поведала я Леонтьеву про свое нестерпимое горе: двух сынов моих родимых загубил Гитлер. Разорил города и деревни советские.
- Хотела я, - говорю, - воевать с этим змеем-людоедом не своими руками, так своими сынами. Надеялась я на их силу. Не стало у меня сыновей... Но от войны с Гитлером я не отступлюсь, нет! Про войну нашу народную рассказать хочу.
- Поедем к нам в экспедицию, - говорит Леонтьев, - искать нефть фронту в помощь. Лето по тундре проездим - книгу свою закончишь.
Здоровье у меня в ту пору было неважное, после смерти сыновей все еще не могла в себя прийти. И в тундру мне пускаться было страшновато: знаю, что она шуток не любит. Но не высказать всего, что за эти три года накопилось, еще страшнее: кровь сыновей стояла перед глазами, и молчать дальше я не могла.
Гостили мы в Хоседа-Харде целую неделю. Леонтьеву хотели переслать сюда из Москвы деньги, чтобы он купил для экспедиции три сотни оленей. А только сейчас узнали мы, что в Хоседе банка нет и, значит, таких больших денег сюда перевести не могут. Оставалась одна надежда - арендовать оленей в колхозах.
Колхозные оленьи стада из-за Урала на летовки к морю шли, по слухам, где-то за Сявтой. И нам надо было попасть напересечку стадам, на Сявту.
Собралось нас, поезжан, немало. С Леонтьевым возвращался в экспедицию тот самый ненец, который его в Хоседу привез. Звали его Петря. Ехал с ними в экспедицию, кроме меня, один молодой парень, рабочий Илья Ермаков. Да еще из Хоседа-Харда в Сявту отправились вместе с нами медичка Зина, да ветеринарка Дуся, ненка (она ехала прививки оленям делать), да еще одна русская девушка, тоже Дуся, - та от финотдела. Вместе с Мартыном Хатанзейским из колхоза "Звезда" да его женой Анной всего набралось девять человек. 21 мая мы простились с Хоседа-Хардом и поехали на восток, к Сявте, в которой, кроме Мартына с женой, никто из нас не бывал.
Теперь мы ехали до Сявты проходной дорогой, без почтовых чумов и без поселков. Хоть дождь, хоть снег - укрыться негде. В десяти километрах от Хоседы оленеводы-дрововозчики дали нам доехать до Сявты три упряжки оленей вместе с нартами.
Олешки попались самые бросовые. Они на вывозке дров да сена по худым дорогам выезжены за зиму, еле-еле ноги передвигают. А все-таки не пешком идем.
На одной упряжке поехали Зина с Дусей, на другой - Леонтьев с Ильей, на третьей - я с Петрей. Ветеринарка Дуся и Мартын с Анной ехали на своих трех упряжках. Вот и собрался целый поезд в шесть нарт.
Пока мы сидели в Хоседе, в тундре появились проталины - ненцы называют их варюи. На этих проталинах весной охотно кормятся олени, на них же важенки норовят телиться.
Протаивают раньше всего бугорки, вода с них скатывается, и они скоро просыхают. Кругом еще снег сугробами стоит, жидкий, из-под ног брызги летят, а на варюях уже без подстилки сидеть можно и солнышком обогреваться.
И гнетет человека в ту пору сладкий, неодолимый весенний сон. На нартах сидишь - разогреешься на солнышке и задремлешь. Олени по доброму месту, где снег под ногами не прорывается, ровной рысцой бегут, а ты сидишь и не заметишь, как начнешь дремать. И вот тебе уже снится, что перескакивают олени ручей, сани дергаются на холме. Вздрогнешь, проснешься на минуту, оглядишь путь-дорогу беспокойным взглядом, а кругом ни ручья, ни холмика.
И Петря сидит рядом, тоже клюет носом, только хорей над оленями для острастки покачивается, как удилище над рекой.
Толкаю я Петрю локтем:
- Рыбу, Петря, удишь?
Петря вздрогнет, проснется и засмеется довольным смехом:
- Пригрело, Романовна...
А я уже опять дремлю хорошей весенней дремой. И у Петри, чуть он успел ответить, снова сон да дрема на глаза накатились.
Не спал один Мартын Хатанзейский - он дорогу правил. Его узкие глаза зорко оглядывали встречные сопки, высматривали оленьи тропы, находили следы полозьев и оленьего копыта там, где непривычный человек ничего не увидит. Мартын вел всех нас, как хозяин гостей водит по своему большому дому. Видно было, что каждая сопка и каждый ручей ему не чужие. Время от времени он вставал на своих санях во весь рост, окидывал быстрым взглядом все, что лежало впереди, и находил пути и проходы в самых непроходимых, кустистых местах. Зато Анна, его жена, спала богатырским сном. И тряхнет ее в иных местах, а она все спит.
Тундра пошла неровная, вся в большущих кочках. Заросли те кочки багульником да морошечником, снег на них приобрезался, и нарты между них вертелись, как колоды на крутой быстери**. Как ни сноровист наш провожатый, а нет-нет и перевернется седок вместе с нартами. Упадешь, поднимешься, сани поправишь, снова на них лезешь. А долго опять не усидишь: только успеем тронуться - смотришь, опять в снег кверху ногами летишь. Сначала я пробовала считать, сколько раз брякнулась, да только вскоре со счету сбилась: упадешь, рассердишься и забудешь.
Первую реку, что встретили мы после Хоседы, я не упомнила, как звать да величать, хоть река такая, что и сейчас в глазах стоит. Выехали мы на крутой и высокий лесистый берег и видим, что лед на реке разломало, льдины раздвинуло, и кажется - заяц и тот на другой берег по этим льдинкам не доскачет.
На другом берегу, низком и кустистом, вспорхнули куропатки. Петрин пес Черный кинулся под гору, прыгнул на первую льдину, с первой на вторую, а третья его и подвела: только Черный ступил на нее, она и перевернулась. Побарахтался Черный в ледяной воде, поскулил да снова по льдинам к нашему берегу попрыгал. Девушки ахают: