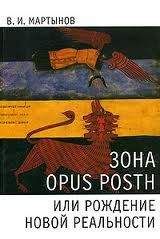Маремьяна Голубкова - Мать Печора (Трилогия)
Письмо это я получила в мае 1943 года, а Леонтьева мне пришлось встретить только через год.
В конце апреля, спустя год, вызывают меня в окружной отдел народного образования и говорят:
- Есть, Маремьяна Романовна, телеграмма от Леонтьева. Приглашает он тебя над новой книгой работать - о войне. Сейчас Леонтьев едет из Кожвы в Хоседа-Хард и тебя туда зовет. Как здоровьишко-то у тебя?
А я этого дня уже давно ждала.
- Поеду, - говорю, - хоть ползунком ползти, а надо.
Встретила я Первое мая еще дома, а второго мая выехала. От Нарьян-Мара до Хоседа-Харда полтыщи верст. Пятьдесят верст я проехала на лошадях и попала в Хальмерку.
Хальмерка невелик поселок, всего два маленьких домика. Живут в них четыре устьцилемские семьи. Выехали они из Усть-Цильмы сюда на рыбные да сенокосные места. Мечут они сетки-переметки на реке Куе, на Кривой виске, косят сено по наволокам для своих коров, зимами возят на лошадях почту и ездоков к Нарьян-Мару, а оттуда до своей Хальмерки.
Стоит Хальмерка средь мелкого леса да кустов, и ничего в ней завидного нет. А люди живут и свое место любят: сенокос у них под руками, рыба тоже.
Остановились мы в избе одного устьцилема; он уже старик лет шестидесяти, на один глаз крив, а сам здоровый, бодрый.
- Что за люди наехали? - спрашивает нас.
Почтовозчика Канева, что ехал с нами, здесь уже знали. Вторая пассажирка, моя попутчица Лазарева, живо откликнулась:
- В Хоседу меня направили, в парткабинет заведующей.
А про меня Канев доложил:
- Это сказительница наша печорская, Голубкова, в командировку едет в тундру, сказы писать.
Понравилось все это старику и старухе. Старуха ему под пару, рослая да видная. Разговорились мы. Прогостили мы в Хальмерке часы считанные, а старики и на обратном пути гостить приглашают.
От Хальмерки в тундру ведут только оленьи тропы. Изредка вдоль этих троп расставлены почтовые чумы. Около чумов пасутся олени. На них возят почту и проезжающих.
За нами от первого чума приехала ненка. На первые нарты погрузили мы почту Канева, на вторые - багаж Лазаревой, а самое Лазареву посадили ко мне в нарты; дали мне хорей в одну руку, вожжу в другую, я правлю, а Лазарева пассажиркой сидит.
Давно я не ездила на оленях, а тут пришлось все вспомнить. Незнающий человек в одних только оленьих ремнях да лямках запутается: в упряжке пять оленей, и у каждого по ремню да по лямке. Всю упряжку ведет один ученый олень, и зовут его передовой, или вожжевой. От рогов передового оленя идет вожжа, этой вожжой и правят. Дернешь вожжу - он влево пойдет и других поведет; по холке вожжой хлопнешь - вправо подается; хореем ткнешь прямиком наускок пустится; хорей на землю бросишь - вся упряжка на скаку остановится. Лазарева боится:
- Справишь ли ты дорогу-то? Как бы нам не отстать да не сбиться. Пропадем ведь...
- Не пропадем, - говорю.
Да как гаркну горла не жалеючи - олени, как птицы пуганые, понесутся, только в санях держись.
Тут же я прохвасталась: рванули олени - я, будто куль, впереди саней и свалилась, а из-под саней никак выбраться не могу. Спасибо Лазаревой, исхитрилась как-то, вожжу поймала и остановила упряжку.
- Вот, - говорю, - шла похвальба на лучинковых ножках, да и те подломились.
На середине пути натолкнулись мои олени на какой-то бугор. Остановились мы и видим, что это лежит под снегом лошадь дохлая, а рядом хомут, и дуга в снег воткнута. Остались от лошади только голова, хвост да хребет, все остальное волки с песцами растаскали.
- Смотри, - говорю я Лазаревой, - отбилась лошадка от своей дороги тут ей и погибель. Не ходить, видно, лошадушкам по оленьим тропам...
Тундровый народ к проезжающим приветливый. Когда ни приедешь - хоть днем, хоть ночью, - хозяева подымутся, разведут огонь, вскипятят первым делом чайник, накормят. И нас во втором почтовом чуме тоже чаем напоили. А проезжему человеку то и нужно: горячего чаю напьешься, обогреешься - будто и домой приехал. Мы же все-таки от Хальмерки до второго чума пятьдесят километров прошли на вешних оленях.
Самые лучшие олени - в осеннюю пору. Осенние олени за лето отъедятся так, что и ребер незаметно. Погладишь по гладкой шерстке - рука по бархату катится. По зимнему первопутку они, как птицы, мчатся, из-под ног снег так и летит. Сани за санями несутся, как вихорь. По сорок километров в час ездят ненцы на хороших оленях по первому снегу.
А вешние олени выезжены за зиму - и под весну совсем как трава вялая. И сила у них не та, и удачи в пути нет. Шерсть на них лохматая, комьями валится. Вот на таких-то оленях нам нужно было до Хоседы добраться. А я еще не знала, что мне придется той же весной ехать через всю Большеземельскую тундру.
Время уже весеннее, дело шло к середине мая. Дорога прорываться стала. Днем, при солнце, наст оленей не держит, то и дело они проступаются. Потом дорога и совсем стала отказывать. Пришлось днями стоять, а ночами ехать. А ночи в мае короткие: не успеет стемнеть по-настоящему, а с северной стороны уже снова заря занимается.
Мы всю дорогу по зорям погоду примечали. Садится солнце в чистое место, без облаков, - быть хорошей погоде. В тучу село - быть дождю. Разметались по небу облачные косы - быть ветру; с какой стороны эти косы, с той и ветру быть. Утром откроется заря сплошной лентой вкруг земли - к дождю либо к снегу. А к хорошей погоде утренняя заря вдоль земли рябоватая, разноцветными пластинками от солнца отсвечивает. К хорошему дню утренний туман на землю падает, а к плохому в небо подымается. Приметы эти мы всю жизнь собираем: сначала стариков слушаем, а потом и своим глазом примечаем - все разглядеть охота.
В четвертом чуме, не доезжая Хорей-Вера, мы остановились на целый вешний день. А вешнему дню да осенней ночи в тундре-матушке конца-краю нет. Мне что-то не спалось, Лазарева да Канев по чумам замертво спали, а я никак зарю не просплю.
Выйду я из чума, оглянусь кругом - сколько глаз хватает, везде тундра, ровная, как море в безветерье. Снег перед теплом посинел, по краю неба, как пояском, синью опоясало. По насту бегают пуночки, - у нас их зовут еще пунухами, - маленькие птички с сероватыми спинками и белыми брюшками. Они первые прилетают в тундру, еще до начала весны. Водятся они большими стаями, по многу сотен штук. Ребята на Печоре ловят их силками из конского волоса.
То здесь, то там перепархивают на синем снегу куропатки. Когда они прильнут ко снегу, их и хорошему глазу не заметить. Голову свою серенькую запрячут они под крылышко и спят. Только один куропоть на дежурство выставлен. Зверь ли пробежит, олень ли подойдет, человек ли подъедет дежурный куропоть голос подаст, куропатки встрепенутся, головки подымут и вот уже вспорхнули, как пурга в небе поднялась.
И сколько ни ходи по тундре, везде рядом с тобой одни соседи - пунухи да куропатки, да сыздали чум, как матерая елка, виднеется.
Когда к чуму подходишь, первым делом встречают тебя собаки, обхают да облают, а то и укусят, коли хозяева их не окликнут. Кругом чума стоят нарты легковые, нарты грузовые, нарты-лари. В ларях одежда, шкуры, продукты. Женщины-ненки ездят на особых нартах. Похожи эти нарты на диваны, украшены они резьбой, раскрашены в разные краски, а иногда обиты разноцветными сукнами и убраны кистями. Олени в женских нартах также украшены кистями из замши разных цветов, увешаны колокольцами и бубенчиками.
Чум сделан из двух десятков шестов, связанных верхними концами в пучок и обтянутых двойным покрывалом из оленьих шкур - нюком и поднючьем. Вверху связки оставлена дыра для выхода дыма - мокадан. Сейчас в чумах завели печки, и в эту дыру выходит дымовая железная труба. В некоторых чумах теперь даже рамы со стеклами вставляют.
Внутри чума вместо пола настил из легких гладко остроганных, а иногда и крашеных досок, или, как их называют в тундре, - лат. На латах постланы коврики, сплетенные из тундровых трав или из ивняка. Вдоль стен, полукругом, лежат свернутые постели, закрытые пологами или накидками. На время обеда устанавливают рядом с постелями коротконогий тундровый столик.
Пища готовится в тяжелых чугунных котлах, чай - в больших медных чайниках. Часто у ненцев можно встретить старинную посуду - медные ковши, братины**.
Одежда у ненцев теперь стала обыкновенная, как и у нас на Печоре: у мужчин - те же пиджаки и брюки, у женок - старинные сарафаны.
Хозяйка четвертого чума увидела у меня в чемодане кокошник и позарилась.
- Как хочешь, - говорит, - мне продай.
Схватила она кокошник, на голову себе надела да так и не сняла. Пришлось ей уступить. Дала она мне на дорогу буханку белого хлеба и деньги, да еще и благодарила.
В одном чуме иногда живут по две и по три ненецких семьи. Живут они очень дружно. Разговор у них немногословный, спокойный. Я и по-ненецки и по-коми понимаю, редких слов не знаю. Слушаю я, как они толкуют меж собой, что вот в стадах скоро отел наступит, - а это здесь как страда в наших деревнях, - что утренники еще холодные и у телят большой отход будет... Важенок пасут во время отела наособицу от быков, и пастухи зорким глазом караулят оленей от зверя.