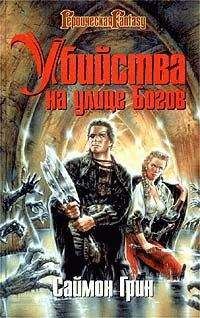Валентина Брио - Поэзия и поэтика города: Wilno — װילנע — Vilnius
Однако заключительное образное отождествление черное пламя — город — «Я» интересно не этим. В поэме развивается метафора города как свитка, псалма, молитвы, в подтексте которых — образ свитка Торы. В традиционных толкованиях не раз объясняется, что Тора по своей природе родственна огню, свиток Торы, полученный Моисеем на горе Синай, это «черный огонь по белому огню»: «Тора, которая дана Моисею, пергамент ее — белый огонь, по которому написано черным огнем, обернута огнем и огнем запечатана» (Midrash Raba, Dvarim, 3:15)[337]. У Кульбака о Вильно сказано: «каждая стена твоя — пергамент», город-талисман, «камия» (мистический текст на пергаменте) вполне естественно связываются с «черным огнем» письмен.
Поэма Кульбака построена на лейтмотивах, и выдерживается этот принцип очень строго. Первая глава является своего рода ключом (наподобие сонетного магистрала). Первый стих (точнее, вариация первого и второго стихов) повторяется как начало второй главы, и далее каждый четвертый стих становится началом каждой следующей главы (стихи 5, 9, 13). Остается завершающее двустишие (о водоносе; стихи 17, 18), которое повторяется как завершающая всю поэму, шестая главка, с числовым обозначением ее самостоятельности.
Такое построение напоминает структуру традиционных комментариев: так, первая глава является «текстом», который ниже поясняется. Каждое четверостишие далее как бы разворачивается в отдельную главу, расширяющую его смысл. Так, первый стих — «ходит кто-то…» и «ночью над городом он…» раскрывается как «ночью над городом я…». Если принять это положение, то пятая глава, во второй части которой появляется образ «черного огня», соотносится с четверостишием, заключающим строки о пергаментном, письменном амулете, а также «каждая стена твоя — пергамент, каждый камень — свиток, / тайно раскрытые и перелистываемые в ночи».
Завершающее двустишие оправданно выделено: водонос выступает здесь как символ народа, опирающегося на традиционный жизненный уклад, духовное достояние (стоит на крыше синагоги) и вопрошающего будущее: каково оно? Ведь этот взгляд на звезды, попытка их «сосчитать» — отклик поэта XX века на известнейшие слова, обращенные в Вечной Книге к Аврааму (и затем повторенные Яакову): «И вывел Он его наружу и сказал: посмотри-ка на небо и сосчитай звезды, сумеешь ли ты счесть их? Сказал Он ему: столь многочисленно будет потомство твое» (Быт. 15:5). Вероятно, поэт задумывался и о собственном будущем: ведь вскоре он оставил Вильно. В начале поэмы стихи о водоносе вписаны в насыщенный библейскими мотивами текст, как и многие другие, они отсылают к текстам Священного Писания. Повторение же этих стихов в качестве завершающих переносит акцент на раздумья о будущем. Тревога этих размышлений смягчена как бы апелляцией к Его обещанию и потому заключает в себе и надежду.
В небольшой поэме Кульбак соединил очень разные стихии — библейскую традиционную, мистическую, экспрессионистскую, лирическую — и слил их воедино. Такую возможность подарил ему вдохновивший его город. Традиционность еврейского Вилнэ, средневековый характер его городского пространства вдохновили Кульбака на размышления об исторической судьбе, о будущем своего народа, вылившихся в яркую поэму.
В конце 1930-х годов, с началом Второй мировой войны, тема еврейского Вилнэ трагически обрывается.
С началом войны в 1939 г. Вильно был занят советскими войсками (в соответствии с тайным пактом Молотова-Риббентропа) и передан Литве. В июне 1940 г. Литва вошла в состав СССР, причем ее столицей стал Вильнюс. 24 июня 1941 г., на третий день после начала войны с Советским Союзом, гитлеровские войска оккупировали Вильнюс. Евреев собрали в гетто (были там и писатели, и читатели); оттуда их вывозили в пригород Верхние Понары, где планомерно убивали.
Евреи Вильно-Вильнюса были уничтожены почти все поголовно немцами и их местными помощниками.
Пусть прозвучит последним свидетельством (как его определил и автор) стихотворение Марка Шагала, побывавшего в Вильно в 1935 году (по приглашению И ВО) и вспоминавшего этот город в годы бедствия.
Виленская синагога
Строенье старое и старенький квартал…
Лишь год назад я расписал там стены.
Теперь святейший занавес пропал,
Дым и зола летят, сгущая тени.
Где свитки древние, прозревшие судьбу?
Где семисвечья? Воздух песнопений,
Надышанный десятком поколений?
Он в небеса уходит, как в трубу.
С какою дрожью клал я краски эти,
Зеленую — на орн-койдеш… Ах,
Как трепетал, в восторге и слезах,
Один… Последний в тех стенах свидетель…
После Второй мировой войны тема еврейского Вильно звучит как плач по уничтоженному Литовскому Иерусалиму: это произведения и воспоминания еврейских писателей Абы Ковнера, Авраама Суцкевера, Авраама Карпиновича, Хаима Граде, Маши Рольникайте, Ицхака Мераса, Григория Кановича и многих других.
В эссе Григория Кановича «Сон об исчезнувшем Иерусалиме» нам предстает город мечты, где все прекрасно и справедливо, и даже евреи там другие, соответствующие величию города; а главное, там каждый станет другим, получит то, о чем мечтал всю жизнь, — это даже не Литовский Иерусалим, а Небесный. Так считают жители его родного местечка Йонавы. Его Вильно — воображаемый Литовский Иерусалим: «выдумками мои земляки день-деньской вышивали серую холстину жизни». Автору, как и его соседям, тоже не довелось увидеть тот Вилнэ, который он так хорошо знал по их и своим снам и мечтам. Но благодаря им этот город стал талисманом, оберегавшим и его душу в военных скитаниях, ведь он «заливал светом, струившимся из окон Большой Синагоги, — светом веры и святости…».
Подростком приехав в этот город в сорок пятом году, он, потрясенный, спрашивал у матери: «Может, мы попали совсем в другой город, заурядный, неприметный, унылый — не в Вильно, не в Ерушалаим де Лита? Может, в спешке перепутали и купили билеты не в ту сторону?» Ведь вместо сверкающего и незыблемого города-корабля своих снов он нашел руины городских кварталов, Большой Синагоги; увидел Понары.
И он отстраивает на этих развалинах город-сон своего детства, своей бабки. Это не идеализация былого Вильно. Город, который воссоздается лишь по чужим воспоминаниям, воспроизводится удивительно достоверно, прорастая сквозь руины своей неуничтожимой сутью, внятной писателю. В этом описании вымысла снов и яви разрушенного города, в котором постепенно исчезали даже руины того, что составляло его еврейскую душу, — Большой синагоги, мы, читатели, видим и слышим этот никогда не виденный город — Ерушалаим де-Лита. Григорию Кановичу удалось передать и дать нам почувствовать суть голоса и говора этого города. Герои Кановича чаще, наверное, говорят на идиш. Он пишет по-русски — и ему удается средствами русского языка вылепить стремительную, сочную и затейливую — ведь идиш литваков высоко ценился — плоть идиша. А герои писателя не случайно выдумщики, они говорят готовыми глубокими символами, воплощая так свое метафорическое мировидение. Вкрапления польского и литовского в речь персонажей разных произведений писателя, без которых немыслима речь и того старого Вильно, и послевоенного тоже, передают особый местный диалект. Причем эти вкрапления в прозе Кановича так неназойливы и понятны (почти без перевода), что совершенно естественно становятся неотъемлемой составляющей оригинальной образности и юмора.
В эссе Кановича нам предстает — сама Память, облеченная в слово, «ибо нет страшней неволи, чем беспамятство и забвение!».
Писатель возвращается вновь и вновь к давним снам, словно ушедшие завещали их ему, — да так оно, в сущности, и есть. Сны уводят в прошлое, в них оживают те, кого уже нет, но ушедшие возвращаются, чтобы сказать свое слово, свою правду, они хотят быть услышанными.
«Мне снился только он, единственный город на свете.
Мне снились его улицы и переулки, узенькие, как веревочки, на которых веками сушилось еврейское белье — не просыхающее от пролитых слез, засиненное синькой несбывшихся надежд, дерзких и высоких, как утренние облака, мечтаний, ливнем обрушивавшихся на неокрепшие души дворовых девчонок и мальчишек со звучными царскими именами — Юдифь и Руфь, Соломон и Давид.
Мне снились его черепичные крыши, по которым кошки расхаживали, как ангелы, и ангелы, как кошки.
Мне снились его мостовые, где каждый булыжник был подобен Моисеевой скрижали.
Мне снились его синагоги и базары — шепот жаркой, почти неистовой молитвы чередовался и перемежался в моих ночных видениях с исступленными выкриками: „Кугл! Хейсе бейгелех! Фрише фиш!“».