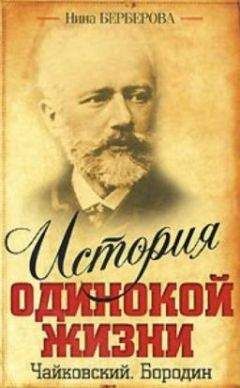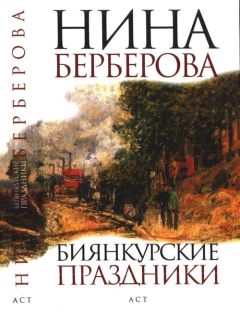Нина Берберова - Чайковский
Для того, чтобы закрыться от всех, он будет отныне избегать оставаться вдвоем с кем бы то ни было — в компании, сколько угодно, но только не с глазу на глаз: ни с любопытствующим обо всем Ларошем, ни с деликатнейшим Сергеем Ивановичем. Он будет еще снисходительнее в обращении, особенно с молодежью. Надо, чтобы все думали, что он вполне уравновешенный, просто не слишком веселый человек. Потом он будет писать: он напишет секстет, балет, опять оперу… Все, что захочется, все, что закажут. После заграничной поездки стало ясно (и Бродскому, и Зилоти, вероятно), что ему надо спешить: он слишком изношен душевно, он болен телесно, он, конечно, скоро умрет. Надо написать еще что-то, главное, мучительное, что мерещится всю жизнь. Разрешить один неразрешенный вопрос.
Но пока он пишет «не то»: Пятую симфонию, и делает это, чтобы доказать самому себе, что он еще не окончательно исписался, что «старик не выдохся». По приезде домой он садится за работу без вдохновения. От заграницы он устал, отвык от одиноких вечеров, но и люди, съезжающиеся к нему из Москвы, ему сейчас не милы. Денежные дела его, несмотря на пенсию, запутаны.
Вокруг вырубали столетний лес, на лето съезжались дачники. На тихое деревенское кладбище в лунные вечера ходили парочки. Чайковский для своих прогулок выбирал уединенные места, которых становилось все меньше, но каждый день он выходил, в любую погоду.
У него вошло в привычку, проходя мимо домов, заглядывать в окна так, чтобы его не видели. Подглядывание сделалось его страстью, иногда он за этим только и ходил. Он лучше других знал, что человек, когда один, не похож на того, каким его знают окружающие, и он старался увидеть чужих ему людей в одиночестве. Сквозь штору, сквозь щель ставни, сквозь незанавешенное окно.
Гости приезжали часто, почти всегда в тот год гостил кто-нибудь, то Модест с Колей, или один, то — короткое время — красивый, совсем уже взрослый, надменный («сто раз божествен-ный») Боб; то жил Ларош — опять, после недолгого профессорства в Московской консерватории, переехавший в Петербург — когда-то многообещающий, скороспелый, теперь — опустившийся неудачник, с запутанной личной жизнью, целыми днями валяющийся по постели с учебником латыни в руках («и вздумал учиться, и лень»), отрастивший себе громадный живот, однажды вдруг бесцеремонно признавшийся, что «терпеть не может Петину музыку». Приезжали из Москвы с деловыми разговорами консерваторские сотрудники: Сергей Иванович отказался от директорства, оно отнимало у него слишком много времени, Сафонов был на его месте; вместо Альбрехта инспектором стала вдова Губерта… Чайковский и сам наезжал в Москву, в Петербург: это стало необходимостью. В один из его приездов в Петербург к нему обратилась дирекция Императорских театров с заказом: написать балет. Косвенно ему намекнули, что этого хочет государь.
Либретто было ему уже готово. Это была «Спящая красавица», и он между делом принялся сочинять с давно не бывшим, легким и ясным настроением. Недаром Ларош говорил когда-то, что он «одарен к серьезной музыке на воздушный сюжет». Он вспоминал, как Надежда Филаретовна несколько лет назад ему писала об «опьянении музыкой». На этот раз он и впрямь пьянел, когда писал. Главное, он старался умерить свою обычную резкость, свои «шумы».
— Ах, почему у меня не так, как у Николая Андреевича (Корсакова)! говорил он часто. — Трубы, тромбоны, ударные инструменты дуют себе во все лопатки по целым страницам, без надобности, без всякого толку!
В «Спящей красавице» он хотел, чтобы этого не было.
Приезжали к нему новые, молодые гости: Аренский, полубольной, обладавший каким-то ненормальным слухом, какого ни у кого не было; Ипполитов-Иванов, его тифлисский друг; ученики консерватории. Музыка и винт — других развлечений здесь не было. Ранним утром, до работы, Чайковский писал у себя письма — почтальон приходил за ними перед завтраком.
Переписка его начала разрастаться давно, но после последней поездки по Европе ему приходилось иногда писать до тридцати писем в утро. Надежде Филаретовне в последнее время он почти перестал писать о себе, да и ей становилось все труднее с годами держаться прежнего напряженного тона, — она старела, у нее появились странности, она более, чем когда-либо окружала себя музыкальной молодежью, сопровождавшей ее и за границу, и в ее Плещеево. Она стала совсем нелюдимой. Теперь Чайковский писал ей больше о красотах Клинской природы или Кавказских гор, о цветах, им посаженных в саду, иногда просил денег вперед — она по-прежнему была щедра и по-прежнему исполняла все его намеком брошенные просьбы. Кроме Надежды Филаретовны были еще из года в год прибывающие корреспонденты, из людей близких, были письма к родным, были деловые письма. И этих становилось с каждым месяцем все больше.
Его звали вновь в Париж, в Германию. В Праге ставили «Онегина». Великий князь Константин Константинович требовал ответа на длинные неглупые свои рассуждения о музыке, поэзии и прочих искусствах. Чехов писал по поводу посвящения ему «Хмурых людей»… И были еще письма к случайно встреченным в странствиях иностранцам и русским, которых он тайно оплакивал, которых не мог забыть…
Тайно. Все, что он чувствовал, он теперь научился чувствовать тайно, и это тоже был один из признаков старости: меньше жадности и меньше остроты в проявлении чувств. Усталость души усиливалась вместе с немощью тела.
Его звали в Америку. Но пока он решил Америку отложить. Он кончил Пятую симфонию, кончил «Спящую красавицу», отдирижировал юбилейными концертами Антона Григорьевича, что далось ему с трудом, но непременно хотелось заплатить «старый долг». Впрочем, какой долг? Разве не был к нему Рубинштейн всегда равнодушен? «Неподвижная звезда на моем небе». Длящееся около часу «Вавилонское столпотворение» и другие рубинштейновские «капитальные» вещи надо было разучить, хор в семьсот человек заставить себя слушать. На девять симфоний Бетховена меньше потратил он сил, чем на оплату несуществовавшего долга. Но и это было позади, и постановка «Красавицы». Его потянуло в Италию, к когда-то любимым местам. Давно он не видел их, давно не дышал нежным и волнующим сердце воздухом. Он уехал с первым действием либретто «Пиковой дамы» в кармане — Модест должен был дослать ему остальное. Да, он решил опять приняться за оперу…
Перед отъездом он сжег свои дневники.
Там, на вилле деи Колли, где когда-то он жил, плясали теперь карнавальные маски, гремела музыка, и в Кашине долго надо было искать уединенного места в пыльной, нарядной масленичной толпе. Он поселился в городе, в отеле с окнами на Лунгарно; стояли почти летние дни. Но не Надежду Филаретовну вспомнил он здесь, не канувшую жизнь свою осенью 1878 года, а в первый же вечер пошел искать уличного певца Фердинанде, которым когда-то любовался, из мальчика ставшего взрослым певцом. Он пошел искать акробата Мариани в «Арене». У него было лихорадочное состояние: либретто Модеста (остальные действия он дослал одно за другим) волновало его так, что без сильного биения сердца он не мог о нем и думать.
Он стал здесь писать целыми днями, с краткими прогулками, с редким ночным пьянством, как давно уже разучился работать. Как обычно, когда он писал помногу, подолгу, с изнурительным напряжением, он чувствовал, что выйдет хорошо. Залог удачи был в полноте, с которой он предавался творчеству; с неудержимой силой, потоком рождались звуки, руки его дрожали над нотной бумагой. Он всегда любил работать наспех, к сроку, это подхлестывало его. «Пиковую даму» он, едва приступив к ней, решил во что бы то ни стало поставить в будущем сезоне. Это придавало работе неизъяснимую прелесть.
Он не раз писал и говорил, что надо быть сочинителем, «на манер сапожников, а не на манер бар, каковым был у нас Глинка, гения коего, впрочем, я и не думаю отрицать. Моцарт, Бетховен, Шуберт, Мендельсон, Шуман сочиняли свои бессмертные творения совершенно так, как сапожник шьет свои сапоги, т. е. изо дня в день и по большей части по заказу».
Экипажи проезжали мимо его окон, направляясь после обеда на гулянье в Кашине; это было его развлечением; развлечением была «Аида», на которой он был раза четыре, каждый раз уходя после второго акта, — больше высидеть не мог; Фердинандо развлекал его своим пением; развлечений этих он искал: возбужденный работой, он, отходя от письменного стола, впадал внезапно в состояние невыносимого угнетения, которое заглушал только сном или работой. В полтора месяца черновик оперы был готов, и он в тот же день начал клавираусцуг. От волнения, от переутомления, над последним черновым листом с ним сделалась истерика — но такая сладкая, такая блаженная, что он испытал от нее даже некоторое облегчение. С готовым клавиром он вернулся в Россию. Он мог жить во Флоренции или в любом другом месте — он на этот раз не заметил Италии: не оказалось ни сил, ни времени для воспоминаний, для того, чтобы расчувствоваться над собственным прошлым.