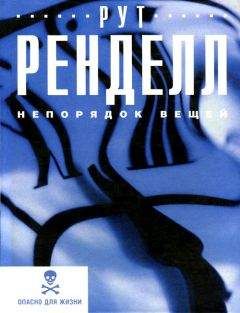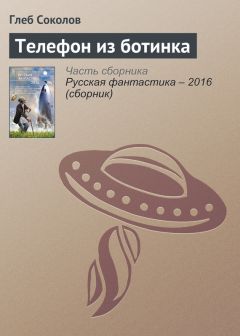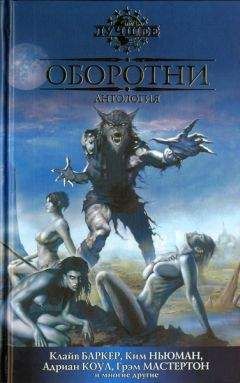Анатолий Гладилин - Сны Шлиссельбургской крепости Повесть об Ипполите Мышкине
Как бы там ни было, благодаря деятельности «Народной воли» правительство пошло на значительные уступки. Ощущаются реальные результаты.
А чего добились мы здесь, в заключении?..
«Раскололи» власти на тюремный харч (так сказать, нанесли экономический ущерб казне)? Дали по роже нескольким жандармам? Протестовали в тюремных стенах, устраивали голодовки, за что платили дорогой ценой — жизнью товарищей?
Между тем страх правительства перед Исполнительным комитетом и политика «диктатуры сердца» сказались на режиме мценской пересылки самым благоприятным образом.
С мценской пересылкой как-то не вязалось слово «тюрьма». Одиночек не было и в помине, камеры вообще не запирались. Заключенные ночевали в светлых общих спальнях, а остальное время проводили в просторной столовой. Книги, свежие газеты? Пожалуйста. Переписка с родственниками? Ради бога. Беспрепятственно приходили посылки «с волн». Иногда заключенные обнаруживали, что домашние пироги были завернуты в страницы нелегальных брошюр.
И уж самое невероятное: смотритель Побылевский охотно вступал в беседы на политические темы (правда, с глазу на глаз, без свидетелей), высказывая порой рискованные мысли.
— Вам не противна роль тюремщика? — спросил его как-то Мышкин.
Смотритель оскорбился:
— Вы бы предпочли, чтобы на моем месте сидел какой-нибудь бурбон или солдафон? Вы соскучились по карцерам и одиночкам? Я ставлю под удар свое служебное положение, пытаясь облегчить вашу участь. Долг честного человека — делать то, что в его силах. Или мне уйти в отставку и, развалившись на мягкой софе, критиковать министерство? Не скрою, занятие приятное, но малополезное.
Зимой в Мценск понаехали родственники заключенных. Жизнь в пересылке забила ключом. С утра посетители, нагруженные всевозможными съестными припасами и даже вином, собирались в конторе и ждали «торжественного» выхода арестантов. Заключенные входили строем, встречаемые радостными возгласами родственников, тюремный староста Войнаральский почтительно докладывал смотрителю: просят разрешения на свидание столько-то человек. Побылевский кисло оглядывал публику и противным голосом тянул:
— Свида-ание разрешается на четверть часа, — после чего исчезал до вечера.
Строй распадался, заключенных растаскивали по углам, и семейные группы оккупировали контору на целый день. Дежурному унтеру подносили «презент», и он с удовольствием выпивал за здоровье «уважаемых господ».
После ужина заключенные сообщали друг другу свежие новости «с воли», тут же завязывались диспуты по наиболее актуальным проблемам, потом молодежь пела хором, а Лев Дмоховский, накинув на плечи платочек сестры, приглашал желающих на танцы.
«Пир во время чумы», — думал Мышкин, наблюдая за веселящимися товарищами. Мрачные предчувствия не оставляли его. Казалось, что вот-вот распахнутся двери, ворвутся жандармы и всех скрутят, закуют в кандалы, отведут в изоляторы. Однако большинство верило в скорую амнистию. С большим жаром обсуждались сведения, дошедшие из Петербурга: правительство деморализовано, столица в панике, в барских особняках боятся даже трубочистов; упорно муссируются слухи, будто динамит переправляют в винных бутылках, а за границей снаряжается пятьсот воздушных шаров для атаки Петербурга.
Однажды к Мышкину подсел Рогачев. Только что этот добродушный богатырь шутил и балагурил. Теперь он вытирал платком лоб и, сохраняя на лице радушную улыбку, делился своими тревожными мыслями:
— Пусть ребята порезвятся. Кто знает, что ждет нас в Сибири. А в Сибирь отправят, это точно. У меня такое чувство, что мы в западне. Захлопнется дверца — и дальше никакой надежды.
«Он понял меня», — с грустью подумал Мышкин.
Как ни странно, именно в мценской тюрьме он по-настоящему ощутил свое одиночество. Если бы вдруг потребовались объединенные действия для отпора администрации, Мышкин тут же нашел бы общий язык с товарищами, по о лучшем режиме трудно было мечтать. Молодежь, недавно вступившая в революцию, видела в Мышкине прославленного вождя, автора известной всей России речи на «процессе 193-х», а потому то ли робела перед ним, то ли сохраняла почтительную дистанцию. Старые товарищи избегали общения, вероятно, потому, что не хотели вспоминать об ошибках «хождения в народ», инициаторами которого они были. Ведь Мышкин — живой свидетель того, как Ковалик, Войнаральский, Кравчинский — тогдашние кумиры молодежи — пророчили крестьянскую революцию еще в семьдесят четвертом году. Ковалик при первой же встрече заявил Мышкину, что «наши взгляды на революцию устарели». Похвальная откровенность. Но обидно сознавать себя людьми, списанными в тираж. Лучше не бередить прошлое.
Пользуясь тем, что в тюрьму свободно проникали нужные книги, Мышкин стал перечитывать «Капитал» Маркса. Размышляя об основах социализма, Мышкин чувствовал, что попал в положение теоретика, который не может отыскать исходную точку. Он с радостью бы принял теорию Маркса как руководство к действию, но где в России целый класс — пролетариат? Немногочисленные русские фабричные могут оказаться под влиянием своих «либеральных» хозяев, если те сумеют сыскать их расположение некоторыми филантропическими мерами…
Шли дни, и Мышкин постепенно начал проявлять активность. По его предложению вместо сумбурных ежевечерних дискуссий решили проводить регулярные занятия, нечто вроде общеобразовательных семинаров. Его поддержал Ковалик — сказывалась старая пропагандистская школа.
Мышкин делал обзор внутренней жизни России, а Ковалик занимался иностранной политикой и международным революционным движением.
Острая полемика развернулась на тему «Деятельность революционера в эпоху либерализации». Мышкин утверждал, что нельзя брезговать легальными возможностями, надо идти на государственную службу, занимать видные вакансии (разговор со смотрителем Побылевским возымел неожиданный результат) и использовать все практические средства для революционной пропаганды.
— Представьте, — говорил Мышкин, — что за антиправительственную агитацию арестовывают не какого-нибудь бедного студента, а, допустим, начальника департамента? Совсем другой резонанс в обществе.
Рогачев выступил в том же духе, но остальные ставили в пример строгую конспирацию «Народной воли».
— Исполнительный комитет действует в отрыве от народа, — возражал Мышкин. — Получается, что горстка террористов хочет совершить государственный переворот. А если полиция зашлет провокатора или случайно нападет на след? Комитет арестуют, и нет революции?
На Мышкина набросились со всех сторон:
— Наоборот, деятельность Исполнительного комитета убыстряет революцию в России.
— Террористические акты производят огромное впечатление. Они демонстрируют бессилие властей.
— Смерть царя вызовет народное восстание!
— Все остальные способы борьбы нереальны. Путь постепенного «распропагандирования» населения привел нас в тюрьму. Нужно приветствовать, а не критиковать отчаянную смелость Исполнительного комитета.
Что на это ответить? Действительно, как мог Мышкин критиковать энергичный Исполнительный комитет, когда самому ему так и не удалось совершить ничего значительного? Отбиваясь от наседавших оппонентов, он позволил себе ироническое замечание:
— Не понимаю, что надо приветствовать: отчаянную смелость или смелость отчаяния?
Забавнейшие спектакли разыгрывались в мценской «гостинице». В последнюю субботу января Войнаральский объявил в столовой, что его вызывал капитан Побылевский и предупредил: в понедельник приезжает инспекция из губернского жандармского управления. Смотритель просил господ революционеров «соответствовать».
В понедельник в пересылке было тихо и уныло.
В канцелярии ни одного посетителя. Заключенные, заросшие щетиной (специально два дня не брились), сидели взаперти в своих камерах и с постными лицами штудировали книги духовного содержания.
Жандармский полковник со свитой обследовал помещения…
Распахнулась дверь большой спальни, и ворвавшийся первым Побылевский закричал: «Встать, канальи!», хотя заключенные сразу вытянулись по струнке. Свита входила, будто икону вносила, и «икона» (господин полковник в позолоте пуговиц, орденов и аксельбантов) бархатным голосом заговорила:
— Господин капитан, вы уж того, слишком…
— Нельзя-с никак иначе, ваше превосходительство, — молодцевато отрапортовал Побылевский, — строгости, только строгости! Тут сидят главные преступники.
Полковник поморщился и осведомился:
— Жалобы имеются?
Жалобы не заставили себя ждать:
— Газет не дают, — роптали заключенные. — Свиданий с родными не разрешают. В карцере гноят.