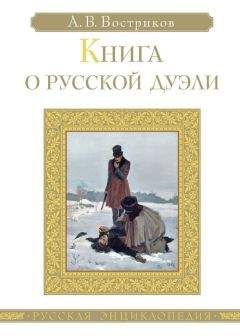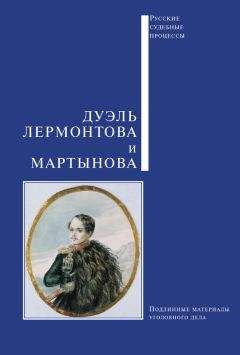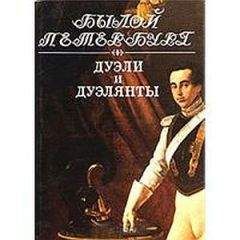Александр Востриков - Книга о русской дуэли
Хотя дуэль назначалась обычно на утро следующего после вызова дня, если соперникам требовалось время, чтобы привести в порядок свои дела, допускалось отложить поединок на несколько дней. Случались и экстраординарные причины для отсрочки. Дворянин мог считать себя не вправе драться на дуэли, если он не выполнил свои обязательства перед другими людьми (например, не закончил другого дела чести или не выполнил какого-либо договора). Отсрочки могли потребовать служебные обязанности; какое-либо невыполненное служебное поручение. Офицер действующей армии во время войны мог потребовать отсрочки до окончания кампании. Отсрочку просили и в связи с семейными обстоятельствами: например, до окончания траура, решения судебного процесса или получения наследства.
В каждом конкретном случае секунданты и соперники определяли, является ли причина отсрочки уважительной. Недостаточная серьезность причины ложилась на честь дворянина как пятно трусости, и часто ничтожная вероятность такого обвинения отвращала дворянина даже от попыток просить отсрочки. В таком случае секундант должен был обдумать, не имеет ли его принципал права на отсрочку, и при необходимости сам сделать предложение о ней.
С другой стороны, требование отсрочки по подчеркнуто ничтожной причине было оскорблением. Например, когда Шереметев с Якубовичем приехали к Завадовскому требовать немедленной дуэли до смерти, тот попросил два часа отсрочки — «отобедать». Насмешка Завадовского осталась в памяти современников и, несомненно, добавила остроты к и так уже накаленной психологической атмосфере. Отсрочку мог предложить и соперник, если он узнал о каких-либо серьезных затруднениях своего визави или об изменении в его положении. Он был вправе и вообще взять вызов назад. Внешне так выглядело решение Пушкина считать свой вызов «как не существовавший» после того, как он узнал о намерении Дантеса жениться на Екатерине Гончаровой.
Такое решение считалось проявлением благородства, но могло быть воспринято и как унизительное снисхождение и, следовательно, отвергнуто.
Дуэль могли отложить из-за непогоды — на сутки, от силы на двое; в крайнем случае поединок происходил в помещении. Так, поединок Пушкина со Старовым в январе 1822 года в Кишиневе был отложен на сутки, а потом все-таки состоялся, несмотря на метель: «Погода была ужасная, метель до того была сильна, что в нескольких шагах нельзя было видеть предмета, и к этому довольно морозно». Два промаха. Барьеры сдвигаются для продолжения дуэли. «Мороз с ветром, как мне говорил Алексеев,[71] затруднял движение пальцев при заряжении». Опять два промаха. «Оба противника хотели продолжать, сблизив барьеры; но секунданты решительно воспротивились, и так как нельзя было помирить их, то поединок отложен до прекращения метели». После этого все-таки удалось примирить соперников {100, стб. 1419}.
Отсрочку дуэли могло вызвать и желание сохранить дело в тайне. Если ссора произошла публично и соперники опасались, что о готовящемся поединке будут извещены власти, они откладывали дело на некоторое время, чтобы отвлечь внимание. В этом случае соперники публично приносили взаимные извинения, а наедине или через секундантов договаривались о том, что поединок состоится позже. Нарушив такое показное примирение, они не испытывали угрызений совести. Так поступили, например, Гринев со Швабриным в «Капитанской дочке»: «Мало-помалу буря утихла; комендантша успокоилась и заставила нас друг друга поцеловать. Палашка принесла нам наши шпаги. Мы вышли от коменданта по-видимому примиренные. <…> Швабрин и я остались наедине. „Наше дело этим кончиться не может“, — сказал я ему. „Конечно, — отвечал Швабрин, — вы своею кровью будете отвечать мне за вашу дерзость; но за нами, вероятно, станут присматривать. Несколько дней нам должно будет притворяться. До свидания!“ И мы расстались как ни в чем не бывали».
Вопрос об отсрочке — это часто вопрос о возможности помешать дуэли, добиться отказа от нее. Узнав о готовящемся поединке (а при отсрочке риск огласки значительно увеличивался), власти могли принять соответствующие меры, чтобы воспрепятствовать ему. Эти меры варьировались в диапазоне от убеждения и предложения других способов удовлетворения до ареста, высылки и т. п.
Кроме того, при огласке угрозу для поединка представляло и общественное мнение, которое со временем постепенно сдвигалось в сторону снисходительности и необходимости примирения противников. Да и в самих дуэлянтах гнев и обида стихали, причины ссоры начинали казаться ничтожными, а возможное наказание и общественное осуждение — значительными. Наконец, проявленной соперниками готовности выйти на поединок иногда оказывалось достаточно для подтверждения чести.
Но если отсрочка не помешала дуэли, значит, дело действительно серьезное.
Итак, время между вызовом и поединком требовалось и дуэлянтам, и секундантам. Секунданты брали на себя технические вопросы, чтобы дуэлянт мог подготовить свои дела и сам подготовиться к будущему поединку и к возможной смерти. В сентименталистской и романтической литературе постепенно сложился своеобразный поведенческий стереотип подготовки к дуэли. Накануне поединка, чаще всего в ночь перед ним, полагалось размышлять о бренности бытия, писать завещание, письма к родным или к любимой женщине, стихи, приводить в порядок свои дела и бумаги. Вот как Д. В. Веневитинов описывал ночь перед дуэлью своего героя Владимира Паренского: «Ночь была свежа. Осенний ветер вздувал епанчу Владимира. Он шел скоро и минут через пять был уже дома. Полусонный слуга внес ему свечку и готовился раздевать барина, но Владимир отослал его под предлогом, что ему надобно писать. И подлинно, он взял лист почтовой бумаги и сел за стол. Долго макал перо в чернильницу, наконец капнул на лист, с досадою бросил его, вынул другой, раза два прошелся по комнате и сел опять на свое место.
Напрасно тер он лоб, напрасно подымал волосы — он не находил в голове мыслей, или, может быть, слишком много мыслей просилось вдруг на бумагу. Вдруг вынул он перо, опять капнул и остановился.
— Нет! Я не могу писать, — сказал сердито Владимир, вскочив со стула и бросившись на кровать во всем платье.
На стуле возле его постели лежал какой-то том Шекспира. Владимир взял его, долго перевертывал листы, наконец положил опять книгу и потушил свечку» {26, с. 286–287}.
А вот что пишет своему другу за полчаса до поединка герой «Романа в семи письмах» А. А. Бестужева-Марлинского: «К родным я написал — утешь их; оставляю моего Ивана — призри его. Если увидишь Адель, когда меня не станет, скажи ей, что я любил ее — и никого не мог ненавидеть. Секунданты здесь, пули пригнаны, пистолеты готовы; я еду — прости!» {9, с. 20}.
С одной стороны, конечно, это было совершенно нормальное, психологически объяснимое поведение человека, жизнь которого оказалась под угрозой. С другой стороны, ситуация приводилась к одной из ключевых тем романтизма — «личность и толпа». Очень выгодной для поэтики романтизма была и преддуэльная «пороговая» ситуация — человек накануне смерти. Этот мотив быстро превратился в литературно-бытовой штамп. В описании последнего вечера Ленского Пушкин сочетает чисто жизненное сочувствие с грустной иронией над «темным и вялым» романтизмом героя:
Домой приехав, пистолеты
Он осмотрел, потом вложил
Опять их в ящик и, раздетый,
При свечке, Шиллера открыл;
Но мысль одна его объемлет;
В нем сердце грустное не дремлет:
С неизъяснимою красой
Он видит Ольгу пред собой.
Владимир книгу закрывает,
Берет перо; его стихи,
Полны любовной чепухи,
Звучат и льются. Их читает
Он вслух в лирическом жару,
Как Д<ельвиг> пьяный на пиру. <…>
Так он писал темно и вяло
(Что романтизмом мы зовем,
Хоть романтизма тут нимало
Не вижу я; да что нам в том?)
И наконец перед зарею,
Склонясь усталой головою,
На модном слове идеал
Тихонько Ленский задремал <…>.
Чехов в «Дуэли» превращает этот штамп в фарс: «Накануне смерти надо писать к близким людям. Лаевский помнил об этом. Он взял перо и написал дрожащим почерком: „Матушка!“ <…> Лаевский то садился за стол, то опять отходил к окну; он то тушил свечку, то опять зажигал ее». И так в конце концов ничего и не написал.
Аналогичные ситуации возникали и в действительности. Сохранилось письмо Пушкина к Дегильи: «Накануне паршивой дуэли на саблях не пишут на глазах у жены слезных посланий и завещания <…>»[72] {138, т. 10, с. 75Ц}.
Впрочем, параллельно с этой традицией и в противовес ей начала складываться другая — подчеркнутого пренебрежения к собственной судьбе и отказа от какой-либо подготовки: