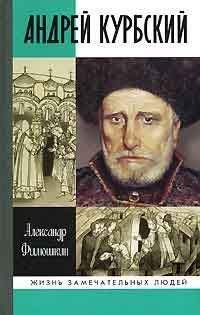Яков Гордин - Дуэли и дуэлянты: Панорама столичной жизни
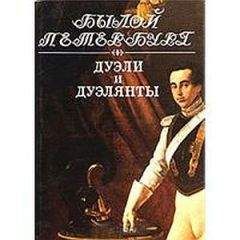
Обзор книги Яков Гордин - Дуэли и дуэлянты: Панорама столичной жизни
Яков Аркадьевич Гордин
ДУЭЛИ И ДУЭЛЯНТЫ
панорама столичной жизни
Нельзя не уважать дуэли; это дело благородное и трагическое.
К. ЛеонтьевПредисловие
Вид с Каменного острова
Литография С. Галактионова. 1822 г.
История российского быта, в том числе и быта психологического, разработана у нас чрезвычайно слабо.
В частности, такое важное историческое явление, как русская дуэльная традиция, редко попадало в поле зрения исследователей. Между тем без разработанной истории дуэли невозможно понять развитие дворянского самосознания в России петербургского периода, а, стало быть, и историю русского дворянства вообще.
История русской дуэли XVIII–XIX веков — это история человеческих трагедий, мучительных смертей, высоких порывов и нравственных падений. И все это многообразное и яркое явление было результатом сокрушительного психологического перелома — перехода от Московской Руси к петербургской России.
Дворянские поединки были одним из краеугольных элементов новой — петербургской — культуры поведения, вне зависимости от того, в каком конце империи они происходили.
С дуэльной традицией неразрывно связано и такое ключевое для петербургского периода нашей истории понятие как честь, без исследования которого мы не сможем понять историю возмужания, короткого подъема и тяжкого поражения русского дворянства.
В истории дуэли сконцентрировалась драматичность пути русского дворянина от государева раба, каковым он пришел из Московской Руси в Петровскую эпоху, к человеку, взыскующему свободы и готовому платить жизнью за неприкосновенность своего личного достоинства, как он понимал его на высочайшем взлете петербургского периода — в пушкинские времена.
Недаром один из центров повествования — именно дуэли Пушкина, хотя последнего его поединка в книге нет. Для его описания требуется книга отдельная и немалая.
Пушкин в нашем повествовании предстает не только одним из самых ярких практиков и теоретиков дуэли, но и личностью, явившей нам эталонные представления о чести и человеческом достоинстве в момент расцвета петербургской культуры.
Пушкин как создатель цельной системы мировосприятия завершил собой классический, здоровый этап петербургского периода истории России. Дальше пошло разложение этого типа культуры, и, по существу, завершилась, как мы увидим, история русской дуэли.
Повествование основано как на многочисленных мемуарных и эпистолярных свидетельствах, так и на архивных разысканиях автора, выявивших целый ряд выразительных дуэльных ситуаций и своеобразие реакции властей на поединки.
Во второй части книги публикуются два дуэльных кодекса. Один, составленный австрийцем Францем фон Болгаром, основан на французском кодексе 1830-х годов и воспроизводит те правила, которые регулировали поведение дуэлянтов в пушкинские, да и более ранние времена. Этот кодекс суммировал неписаные правила европейской дуэли.
Другой кодекс фиксирует те правила, которыми пользовались уже после легализации дуэлей в российской военной среде по указу Александра III от 13 мая 1894 года. Этот кодекс систематизировал всю российскую дуэльную традицию. Сравнение двух кодексов предоставляет возможность проследить развитие и упорядочение дуэльных представлений.
В приложении дается официальная версия едва ли не последней «классической» петербургской дуэли. Впервые вниманию читателей предлагается «Дело о поручике Лейб-Гвардии Гусарского полка Лермонтове, преданном военному суду за произведенную им с французским подданным Барантом дуэль…». «Дело» позволяет познакомиться с характерным для таких ситуаций ходом следствия.
Таким образом, предлагаемая книга является своего рода «вольной энциклопедией», представляющей историю дуэлей в России в самых разных ракурсах.
Часть первая
Человек с предрассудками
Невольник чести беспощадный,
Вблизи он видел свой конец,
На поединках твердый, хладный,
Встречая гибельный свинец.
Русское дворянство родилось как военная каста. Дворянин был человек с оружием, и назначением его было вооруженное вмешательство в ход жизни — война, подавление мятежа. В полной мере Пушкин осознавал себя наследником этой суровой традиции дворянства: «Мой предок Рача мышцей бранной Святому Невскому служил…».
После Лицея он долго колебался, идти в статскую или военную службу. Можно с уверенностью сказать: ежели бы в то время началась или предвиделась война, он стал бы офицером.
Храбрец Липранди, прошедший несколько войн, вспоминал: «Александр Сергеевич всегда восхищался подвигом, в котором жизнь ставилась, как он выражался, на карту. Он с особенным вниманием слушал рассказы о военных эпизодах; лицо его краснело и изображало жадность узнать какой-либо особенный случай самоотвержения; глаза его блистали, и вдруг он часто задумывался. Не могу судить о степени его славы в поэзии, но могу утвердительно сказать, что он создан был для поприща военного, и на нем, конечно, он был бы лицом замечательным; но, с другой стороны, едва ли к нему не подходят слова императрицы Екатерины II, сказавшей, что она бы „в самом младшем чине пала в первом же сражении на поле славы“».
Он так живо представлял себя на войне, что мог написать в двадцатом году:
Мне бой знаком — люблю я звук мечей;
От первых лет поклонник бранной славы,
Люблю войны кровавые забавы,
И смерти мысль мила душе моей.
Это не были свирепые мечты слабого человека, боевая ярость, переживаемая наедине с листом бумаги и не могущая вырваться в реальность. В армии, с которой Пушкин шел к Арзруму летом двадцать девятого года, о его бесстрашии возникали легенды. «При всякой перестрелке с неприятелем, во время движения вперед, Пушкина видели всегда впереди скачущих казаков и драгун прямо под выстрелы», — вспоминал потом один из офицеров Паскевича, ссылаясь на очевидцев и в том числе на Вольховского, лицейского друга Пушкина, талантливого военного, прямого и правдивого. Разумеется, мемуарист усилил реальную ситуацию — «всегда», «при всякой перестрелке», — но безусловно, что высокая репутация Пушкина среди офицеров сражающейся армии имела все основания.
Но это было позже. А в молодости — крепко сложенный, мускулистый, с прекрасной реакцией, наездник, фехтовальщик и стрелок, он жаждал физического действия. Он понимал азарт и прелесть физического противоборства и постоянно к нему стремился.
Из кишиневской тетради
Автограф Пушкина. 1821 г.
Молодой офицер Лугинин, приехавший в Кишинев в двадцать втором году, записал в дневник: «Дрался я с Пушкиным на рапирах и получил от него удар очень сильный в грудь». А через три дня: «Дрались на эспадронах с Пушкиным, он дерется лучше меня и, следовательно, бьет».
Он любил держать в руках оружие. В Кишиневе носил с собой пистолет, которым однажды угрожал молдавскому боярину, отказавшемуся от поединка. Ему доставлял удовольствие сам процесс стрельбы. Всю взрослую жизнь он упражнялся в стрельбе при всякой возможности и стал первоклассным стрелком.
Смолоду в нем играл избыток сил, который требовал боевого и псевдобоевого выхода. Он был готов и к прямой драке. Дневник Павла Ивановича Долгорукова за двадцать второй год: «История Пушкина с отставным офицером Рутковским. Офицер этот служил некогда под начальством Инзова и по приглашению его приехал сюда для определения к месту. Сегодня за столом зашел между прочим разговор о граде, и Рутковский утверждал, что он помнит град весом в 3 фунта. Пушкин, злобясь на офицера со вчерашнего дни, стал смеяться его рассказам, и сей, вышед из терпения, сказал только: „Если вам верят, почему же вы не хотите верить другим?“ Этого было довольно. Лишь только успели встать из-за стола и наместник вышел в гостиную, началось объяснение чести. Пушкин назвал офицера подлецом, офицер его мальчишкой, и оба решились кончить размолвку выстрелами. Офицер пошел с Пушкиным к нему, и что у них происходило, это им известно. Рутковский рассказывал, что на него бросились с ножом, а Смирнов, что он отвел удар Пушкина; но всего вернее то, что Рутковский хотел вырвать пистолеты и, вероятно, собирался с помощью прибежавшего Смирнова попотчевать молодого человека кулаками, а сей тогда уже принялся за нож. К счастию, ни пуля, ни железо не действовали, и в ту же минуту дали знать наместнику, который велел Пушкина отвести домой и приставить к дверям его караул». История эта свидетельствует о полном пренебрежении к требованиям дуэльного кодекса.