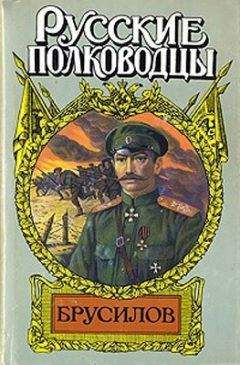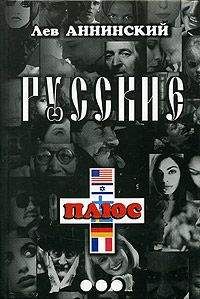Юрий Слёзкин - Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера
У Комитета Севера были все основания для опасений{740}. Как сказал один чукча, «чукчи больших начальников никогда не видят. Если сюда посылают хороших людей — значит, большой начальник хороши человек; ели сюда приезжают плохие люди — большой начальник может быть плохой»{741}.
Несмотря на все усилия Комитета, репутация нового строя была низкой, и признаков улучшения не наблюдалось. Народы Заполярья жаловались на неспособность или нежелание правительства обуздать русских переселенцев и улучшить качество привозимых товаров{742}. Доведенная до крайности группа алюторских коряков предъявила отчаянный ультиматум: «Мы… перестанем курить, пить чай, класть табак за щеки и будем жить одни и пускай они над нами не смеются»{743}. Более того, большинству не нравились те немногие реформы, которые новая власть пыталась провести: административные перетасовки, равноправие женщин, сухой закон и в особенности создание школ{744}. По словам наркома просвещения, «мелкие кочующие народности Севера… запуганы до чувства ненависти к русской культуре»{745}. На Северо-Востоке, где американские торговцы могли предложить альтернативу, местные народы определенно предпочитали их русским{746}.
Разумеется, все эти явления могли быть временными. Комитет ожидал большего финансирования по мере того, как Советское государство будет крепнуть, и большего понимания по мере того, как малые народы оценят пользу от нововведений. (Многие действительно были рады прибытию врачей и просили присылать их больше{747}.[73]) Самым серьезным разочарованием была безнадежная нехватка кадров. Один отряд за другим (используя популярную в те времена военную терминологию) терпел поражение из-за холода, голода, враждебности поселенцев и, самое главное, из-за отказа коренного населения от сотрудничества. Великая жертва была отвергнута.
Много лет спустя студентка-манси вспоминала свою первую учительницу, молодую девушку, которая не говорила на местном языке и не умела обращаться с несговорчивыми детьми: «Уговаривала нас девушка, Мария Андреевна наша, просила, просила и потом вдруг села и заплакала». Через несколько дней она заболела и уехала{748}.
В конце 1928 г. П.Г. Смидович писал о протеже своего комитета:
Их (туземцев) верования, их отношения сложились в веках в зависимости от условий борьбы за существование. Шаманизм, жилье и семья; охота на песца, на моржа, нерпу, на кита, первобытный коммунизм, собаки и олени — все это так, как сложилось в тумане веков. И мало меняет то новое, что внесено новой культурой… Строй жизни и сейчас не изменился в широком масштабе… Не изжита зависимость туземца от стихии, не изжиты голодовки при неудачном промысле. Так же косят эпидемии при отсутствии врачебной помощи{749}.
В этих словах есть разочарование, но нет уныния. Прогресс за полярным кругом требовал больше времени и новых жертв, но он не был невозможным. Никто и не предполагал, что «зависимость [туземцев] от стихий» удастся ликвидировать за четыре года. В 1928 г. тон докладов Комитета был мрачным, но не безнадежным. Главной причиной оптимизма была вера в то, что рано или поздно хорошо подготовленные кадры займут свои места в тайге и тундре. Институты продолжали готовить новых выпускников, а в Ленинград, для знакомства с «цивилизованным миром», прибыла первая группа будущих туземных врачей, учителей, журналистов и партийных секретарей[74].
Теоретики Комитета исходили из того, что народы Заполярья смогут преодолеть отсталость и стать полноправными и равными членами многонациональной семьи только в том случае, если их поведет за собой собственный «сознательный» авангард (то же самое относилось ко всем народам, стремившимся «наверстать» ход истории). Создание туземной элиты было одной из главных задач Комитета, и, как оказалось, наиболее реалистичной. При нехватке средств и людей Комитет мог оказаться не в состоянии преобразить «дальние окраины», но он всегда мог позаботиться о горстке молодых людей, посланных в Ленинград.
Выдвижение рабочих на управленческие посты через систему образования было одним из важнейших элементов политики советской власти. Поэтому казалось совершенно естественным, что школа для будущих туземных лидеров должна строиться по модели «рабфаков», где готовили будущих советских начальников. В 1925—1926 годах туземный рабфак был создан в Ленинградском университете, а годом позже он был преобразован в рабфак Ленинградского института живых восточных языков (как его Северное отделение).
Вербовка студентов была нелегким делом. Местные чиновники не могли понять, зачем кому-то понадобился дикарь в вузе, и настаивали на отправке туда зырян, якутов или русских. Некоторые не упустили уникальную возможность и послали своих собственных детей{750}. Многие кандидаты из числа «собственно малых народностей» отказались ехать или не подошли по состоянию здоровья{751}. Само путешествие было событием эпического масштаба. Растерянные, испуганные, часто не понимавшие по-русски юноши и девушки добирались до Ленинграда неделями, а то и месяцами, открывая для себя толпы, города, поезда и становясь открытием для других пассажиров. Когда группа нанайских путешественников остановила поезд, потому что один из них отстал, железнодорожные власти не стали штрафовать их «из уважения к столь редкостному представителю нацменов… и его будущей деятельности»{752}. Один студент-кет вспоминал:
В Ленинград приехали днем. Когда из вагона стали выходить, я одного эвенка сзади рукой держу, для того людей между чтобы не потеряться. Так мы на площадь вышли. Там мы на коне поехали. Я в кибитке спиной вперед сидел. На площадь смотрю — на большом камне наверху большой конь стоит, на нем верхом еще большой человек сидит. Я так подумал, это — самый большой (старший) из милиции, который за порядком смотрит{753}.
Большим человеком был Петр Великий, инициатор единственной предыдущей попытки со стороны государства силой обратить малые народы Севера на путь прогресса.
За прибытием в институт следовал визит в баню, ритуал, который означал начало борьбы с отсталостью во всех туземных школах страны. Затем следовал карантин, после которого студенты, одетые в строгую черную форму, были готовы к поединку с европейской культурой{754}. Переход был трудным. Многих свалили венерические болезни, туберкулез, трахома, грипп или пищевые отравления, и их пришлось отправить домой. Некоторые попали в больницу прямо с поезда и так и не получили шанса увидеть институт{755}. Спальни были холодными, сырыми и перенаселенными; город снаружи казался страшным{756}. Как сказал один коряк, «дома высокие и все заслоняют — хочется увидеть что-нибудь подальше»{757}. Многих студентов грабили и избивали банды подростков. Некоторые становились алкоголиками и заканчивали тюрьмой, другие так и не вернулись с каникул, а третьи отказывались возвращаться домой{758}.
Руководство института пыталось бороться с проблемами адаптации при помощи дисциплины и насыщенной учебной программы. Студенты вставали в восемь утра, пили чай и занимались до обеда, который был в четыре часа. Затем их ждали собрания в клубе, организованные экскурсии и различные репетиции. Общественная работа была обязательной.
В аудиториях проблемы продолжались. Студенты были разного возраста и говорили на разных языках. Некоторые имели какую-то подготовку, другие были выдернуты прямо из «дымных чумов» и совсем не знали русского языка. Буквари содержали множество незнакомых реалий, а чукотские женщины наотрез отказывались говорить на «мужском языке»[75]. Постоянные изобретения туземных терминов для таких понятий, как «буржуазия», «пролетариат» и «крестьянин-бедняк», были столь же трудным делом для студентов, сколь увлекательным для преподавателей. И все же они занимались — в основном русским языком, математикой, политграмотой, географией и полярной лингвистикой, а также рисованием, физкультурой и даже английским{759}. В 1927 г. к первым тридцати студентам присоединились пятьдесят два новичка. Тех, кто пережил шок и болезни, обращали в новую веру — новый способ воспринимать мир и самих себя. Несколько лет спустя выпускник-коряк мог сказать:
Когда я был дома — не верил, что где-нибудь живут люди, кроме Камчатки. И когда меня командировали из райисполкома, думал, что ничего не выйдет из такого темного коряка. Один вопрос все никак не мог решить, — боялся, — туда ли меня повезут? Ведь на море нигде не видать земли и леса. И вот сомнение выходило: и если меня повезут на море, то меня там бросят в море и меня укалэ (тюлени) съедят, или же возьмут помощником работать на пароход…