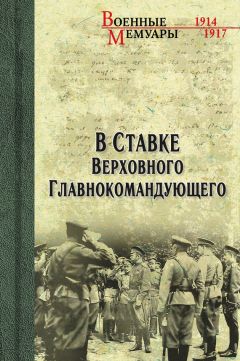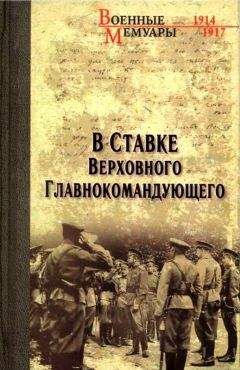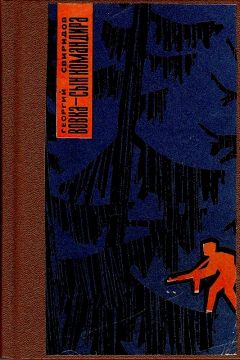Нина Молева - Семь загадок Екатерины II, или Ошибка молодости
— Вы оба увлекаетесь этой наукой?
— Как иначе, когда оба служим по горному ведомству.
— Я имел в виду не служебные обязанности, а вашу неизменную увлеченность.
— А в этом, пожалуй, мы особенно с вами близки, Дмитрий Григорьевич. Вам не кажется? Как я признателен вам за то давнее проявление дружества, когда вы написали наши с вами два портрета. Я не расстаюсь со своим, а вашего нигде не вижу.
— Помилуйте, Николай Александрович, чтобы художник собственный портрет миниатюрный напоказ выставлял. Лежит он у меня в потайном месте. Настасье Яковлевне, и той нет охоты показывать. Это наше с вами, а остальным и дела нет.
— Мой портрет удивительный. Никогда бы не подумал, что из меня едва не мыслителя сделать можно.
— Да уж вы мне польстили, когда эпиграмму свою написали.
— Ах, эту! Да я ее и сейчас помню: Скажите, что умен так Львов изображен В него искусством ум Левицкого вложен.
— Льстец вы, Николай Александрович!
— Чистую правду сказал. Да, а зашел я к вам, конечно, не из-за Хемницера. Главное — думаю, удастся мне заказ на портрет ваш государыни устроить.
— Да портрета-то еще нету.
— Неважно. По крайней мере будете знать, на какое помещение и на каких зрителей рассчитывать.
— И где же чудо такое объявилось?
— У Безбородко. Я в новом Почтамте и залу для него превосходнейшую присмотрел. Так ее и отделаем.
— А сам Александр Андреевич что?
— Не глядя согласился. Он ведь к вам с великим почтением относится.
— Да нужен ли ему портрет?
— Нужен-нужен, не сомневайтесь, Дмитрий Григорьевич. Экой вы, как красная девушка: все вам неловко да неудобно. Сами рассудите, как Безбородке не желать, так скажем, вольтерьянского портрета. Обычные, как во всех учреждениях, ему не нужны. Вы его дорогу во дворец-то припомните. Небывалой ловкости требовала, да ведь осилил.
— Полноте, Николай Александрович, что же, у Александра Андреевича заслуг перед государыней мало? Помню на картине этой, что заключение Кучук-Кайнарджийского мира представляла, Румянцев-Задунайский с какими соратниками изображен был: Семен Романович Воронцов, Александр Андреевич да граф Завадовский Петр Васильевич. Сколько тогда толков ходило, что граф Воронцов вдвоем с Александром Андреевичем прожект мира этого сочиняли, да еще неизвестно, кто более постарался.
— Дмитрий Григорьевич, будто и в совершеннолетие вы еще не пришли! Будто раз заслуга, так и награда. Да вы с Семена Романовича Воронцова начните — где он теперь. В дипломатической миссии, все равно что в ссылке. Граф Завадовский свое время во дворце отбыл, самого Потемкина на первых порах сменил, да оглянуться не успел — в Малороссии оказался. Тут своя загадка. То ли императрица сама так решила, то ли подсказал ей кто. Ловко подсказал. А уж о самом Румянцеве-Задунайском и говорить нечего. Все ему отлилось — и успехи военные, и слухи всякие о происхождении. Правда — не правда, только императрице, конечно, радости в них мало.
— Это что родным сыном он государю императору Петру Великому приходится?
— Видите, и вы слыхали.
— Ловко так все получилось. Графа Кирилу Разумовского государыня гетманства лишила.
— Так ведь отменено было гетманство — мне ли не знать.
— Потому и отменено, что граф Разумовский стал императрицу просить наследственным его сделать, одному из сыновей своих передать.
— И государыня?
— Известно, не согласилась. Гетманство отменила, а вместо него генерал-губернаторство малороссийских земель, куда Румянцева-Задунайского начальствовать и отправила.
— Так что Александр Андреевич один, без поддержки, в столице остался?
— Спасибо, граф Петр Васильевич о протекции ему хлопотал.
Бакунину Меньшому письма специальные писал, чтобы обеспокоился судьбой да службой Александра Андреевича, что, мол, неосторожен он очень и в высказываниях пылок — не повредил бы он себе ненароком. Бог миловал до сей поры.
* * *Петербург. Дом А.А. Безбородко. Безбородко, слуга Ефим, Н.А. Львов, Г.Р. Державин, И.И. Хемницер, И.Ф. Богданович, Левицкий.
— Ваше превосходительство, Александр Андреевич, на сколько персон ужин накрывать прикажете?
— Как обычно, Ефим. Сейчас сочтем: Державин Гаврила Романович, Хемницер Иван Иванович, мы с Николаем Александровичем, Богданович Ипполит Федорович, Василий Васильевич Капнист.
— Неужто из Малороссии приехал? Надолго ли?
— Сказывал, по делам. Поди, надолго не задержится. В разлуке с молодой женой быть не захочет.
— Значит, ему один прибор ставить?
— Дам у нас нонича, как всегда, не будет. Еще, пожалуй, три персоны да главный наш именинник — Левицкий Дмитрий Григорьевич. Видел его новую картину, что в галерее повесили?
— Как не видеть! Распрекрасная картина — глаз не оторвешь. Матушка-царица как в сказке стоит, вся так и сияет.
— Вот ты у нас какой знаток сделался. По случаю картины этой, которую мы все столько ждали, шампанского заморозить вели да хрусталь новый, богемский вели подать. Чтоб как на самый большой праздник.
— Неужто не сделаю? Будете довольны, Александр Андреевич. В таком дворце и к столу подавать одна радость. Дождались-таки царских хором.
— Скажешь тоже, царских. Велики — верно, а по отделке до дворца далеко.
— Не сразу Москва строилась. Будет время — все в наилучшем виде закончите. Оно уж галерея-то и нынче другим барам только позавидовать.
— Позавидовать, может, и могут, а своим признать — вот это куда труднее.
— Ничего-ничего, Александр Андреевич, лишь бы царице угодны были, а все другие тут же во фрунт станут. Да что мне, старому солдату, вам говорить — сами, поди, знаете.
— Разболтался ты, служака, а гости-то уже на дворе.
— Батюшки-светы! Бегу, бегу за столом приглядеть.
— Дмитрий Григорьевич, именинник вы у нас сегодня, доброго вам здоровья, как есть именинник.
— День добрый, ваше превосходительство, а вот насчет именинника не разумею.
— Чествовать сегодня картину вашу будем.
— Полноте!
— И не отмахивайтесь. Ипполит Федорович читали, поди, какие стихи на нее написал — «Екатерина Законодательница в храме Правосудия». А Гаврила Романович и того лучше — оду целую сочинил. Вот и послушаем сегодня, и посмотрим. Э, да покуда я с вами тут толкую, друзья-то наши все у картины вашей собрались, даже нас не примечают. Господа! Господа! Прошу, рассаживайтесь, итак, я полагаю, что начнем мы с программы, которую Дмитрий Григорьевич в основу своей картины положил. Знаю, Дмитрий Григорьевич, что вы ее для Богдановича написали, а теперь и нам разрешите приобщиться.
— Многословием-то я не грешу, если только вкратце.
— Как изволите.
— Как видите, господа, средина картины моей представляет храм, внутренность храма богини Правосудия, пред которой в виде Законодательницы ее императорское величество, жертвует своим покоем, сжигая на алтаре маковые цветы. Собственным покоем ради покоя общественного! Но делает это с лицом радостным и просветленным от сознания благороднейшей цели своего жертвования. Потому и увенчана ее императорское величество не короною, а лавровым венцом поверх короны гражданской, возложенной на главы ея. Знаки ордена Святого Владимира изображают отличность знаменитую за понесенные для пользы Отечества труды. А то, что труды сии Отечеству полезны, подтверждают лежащие у ног монархини книги законов, подтверждающие истинность и справедливость ее поступков. Победоносный орел покоится на законах, и вооруженный Перуном страж рачит о целости оных. Вдали поместил я открытое море, корабль как символ флота Российского и на развевающемся российском флаге, на военном щите Меркуриев жезл — потому что главным для народа является не война, но успешная торговля. Вот как будто, и все, господа.
— Вы существенное обстоятельство пропустили, Дмитрий Григорьевич!
— Что вы на мысли имеете, Гаврила Романович?
— Смысл кадуцея — жезла Меркуриева. Разве одну торговлю он означает?
— Это уж моя промашка при объяснении, прошу покорно извинить. Конечно, крылатый кадуцей означает прежде всего науки, кои приходят при нашей государыне в столь процветающее состояние.
— А Фемида? О Фемиде вы упомянуть забыли, а ведь какая мысль у художника высокая! Фемида может сдвинуть с глаз повязку, положить на колени весы и, отдыхаючи, глядеть, как обязанности ее успешно отправляет российская императрица.
— Господа, но все наши слова слабы перед строками, сочиненными Гаврилой Романовичем. Пусть он прочтет свое последнее творение «Видение Мурзы».
— Его вдохновение мне подарил чудный образ Левицкого. Если разрешите, господа:
Раздвиглись стены и стократно
Ярче молний пролилось
Сиянье вкруг меня небесно;
Сокрылась, побледнев, луна.
Виденье я узрел чудесно:
Сошла со облаков жена,
Сошла — и жрицей очутилась
Или богиней предо мной.
Одежда белая струилась
На ней серебряной волной;
Градская на главе корона,
Сиял на персях пояс злат;
Из черноогненна виссона,
Подобный радуге, наряд
С плеча десного полосою
Висел на левую бедру;
Простертой на алтарь рукою
На жертвенном она жару
Сжигая благовонны маки,
Служила вышню божеству,
Орел полунощный, огромный,
Сопутник молний торжеству,
Геройской провозвестник славы,
Сидя пред ней на груде книг,
Священны блюл ее уставы;
Потухший гром в когтях своих
И лавр с оливными ветвями
Держал, как будто бы уснув.
Сафиросветлыми очами,
Как в гневе иль в жару, блеснув,
Богиня на меня воззрела.
Пребудет образ ввек во мне,
Она который впечатлела!
"Мурза! — она вещала мне. —
Ты быть себя счастливцем чаешь,
Когда по дням и по ночам
На лире ты своей играешь
И песни лишь поешь царям.
Вострепещи, мурза несчастный,
И страшны истины внемли,
Которым стихотворцы страстны
Едва ли верят на земли:
Одно к тебе лишь доброхотство
Мне их открыть велит. Когда
Поэзия не сумасбродство,
Но вышний дар богов, — тогда
Сей дар богов лишь к чести
И к поученью их путей
Быть должен обращен — не к лести
И тленной похвале людей.
Владыки света люди те же,
В них страсти, хоть на них венцы;
Яд лести их вредит не реже,
А где поэты не льстецы?"
…"Кого я зрю столь дерзновенну,
И чьи уста меня разят?
Кто ты? Богиня или жрица?"
Мечту стоящу я спросил.
Она рекла мне: «Я Фелица»…
— Фелица? Иными словами, Фелицитас — благодетельная богиня Счастья.