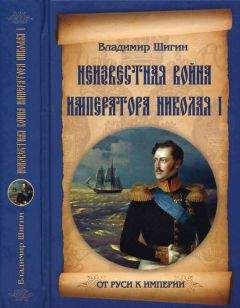Сергей Мельгунов - Судьба императора Николая II после отречения
4. Революционная тюрьма
Была в деятельности Чрез. Сл. Ком. одна сторона, остро затрагивавшая общественную честь и, судя по воспоминаниям Завадского, чрезвычайно волновавшая некоторых членов Комиссии. «Одним из наиболее бередящих душу вопросов, – вспоминал он, – для меня представляется вопрос… арестантский, касавшийся лиц, сидевших в Петропавловской крепости, хотя они были взяты под стражу не нами и не за нами числились, но расследование предполагаемых их преступлений было возложено на нас, и это, по-моему, нас обязывало. Все вокруг считали, что арестантов держит Комиссия, и выражением общего мнения в моих глазах являлось прошение Н.П. Карабчевского, в котором… было поставлено нам в вину содержание под стражей лиц, остающихся без допроса целые месяцы… Я понимал или, вернее, чувствовал, что Комиссия должна поставить принципиально вопрос о недопустимости дальнейшего содержания людей под замком без привлечения их к ответу в законном порядке. Но дни шли, а прошение это лежало на столе перед Н. К. Муравьевым без движения: насколько помню, Карабчевскому мы так ничего и не ответили, даже не отписались формальным ответом, что за нами числится только сен. Добровольский, уже привлеченный к допросу в качестве обвиняемого. И ведь я был не одинок со своим мнением: если подсчитать, то, пожалуй, моих сторонников оказалось бы больше; но все мы были, видимо, лишены заговорщических наклонностей и способностей, так что не догадались сговориться тайком и, действуя скопом, заставить нашего председателя уступить воле большинства, а потому и решали только те вопросы, которые он вносил на общее обсуждение. Чем дальше отходит от меня это мое прошлое, тем отчетливее я сознаю, что в таком вопиющем беззаконии и сам я не без вины: и моего дегтя тут есть капля, дегтя слишком легкого подчинения данному положению вещей. Во мне все болело при мысли о моем бессилии, и я ежедневно мучился и в Зимнем Дворце, и в Петропавловской крепости. В Зимнем Дворце нас осаждали жены арестованных…» «Допросы производились в здании Трубецкого бастиона, где нам отведена была особая комната. Очень скоро стали доходить до нас сведения, что караул бастиона, захлестываемый, видимо, волнами «кронштадтского углубления революции», грубо притесняет заключенных, как контрреволюционеров, и даже морит их голодом, значительную часть арестантских порций направляя в свои, верные революции, желудки. Сведения были точные: их подтверждал и доктор при крепости, апатичного вида человек в форме военного врача; равнодушным голосом говорил он, что все это правда, и еще равнодушнее добавлял, что он не может ссориться с караулом и наживать себе врагов… а мы-то, мы? Но и Муравьев как-то жался и только разводил руками, говоря на мои взволнованные речи, что и заключенные не наши, и караул не в нашей власти[122]. Мои слова звучали будто в пустом пространстве, не находя отклика, и волнение мощно нарастало в душе, пока не перелилось через край на допросе вице-директора Департамента полиции К.Д. Кафарова… Я знал Кафарова, когда он еще был тов. прокурора моск. суд. пал.: веселый собеседник, несравненный тулумбаш на дружеских пирушках… Это была тень прежнего Кафарова… А когда он на вопросы кого-то из нас, заметившего его изможденность, осторожно сказал о положении заключенных и смолк, опустив голову и сделав рукою движение покорной безнадежности, я свое сердце услышал в висках. Едва удалился Кафаров, я, обращаясь к Муравьеву, взволнованно заговорил, что мы не можем долее без протеста терпеть дикий произвол караула, который позорит новый режим… Помню, что заверил, что при Царе едва ли бы нашелся прокурор, который бы допустил хотя бы отдаленный намек на подобного рода поступки со стороны тюремной стражи. Муравьев на это мне ответил требованием, чтобы я взял назад свои слова, унижающие новый режим и восхвалявшие старый. Я возразил, что если бы я был врагом нового режима, меня бы здесь он не увидел… Тон моего возражения был не из сдержанных; Муравьев кипятился не менее моего, и чем бы все это кончилось, кто может знать? Но выручил меня представитель из лагеря революционной общественности. С нами на сей раз в крепость приехал состоявший при Комиссии революционер, фамилию которого, к стыду моему, я забыл, а помню только литературный псевдоним – Неведомский[123]; лицо его стоит передо мною, как живое: бледный, дрожащий шагнул он ко мне и со слезами на глазах пожал мою руку, говоря, что ему больно за себя и за своих при виде, какие безобразия могут теперь твориться. Немного спустя подошли ко мне и стенографисты с изъявлением своего сочувствия, но и до этого я по лицам и выражениям окружающих удостоверился, что большинство присутствующих оказалось на моей стороне».
Для того чтобы вставить повесть Завадского в соответствующие хронологические рамки, надо иметь в виду, что допрос Кафарова происходил 11 апреля, а обращение Карабчевского, на которое раньше ссылается автор, последовало далеко не в первые дни функционирования Комиссии – это было через два месяца, когда произошла уже смена министерств и министром юстиции был Переверзев. В своих воспоминаниях Карабчевский рассказывал: «Жены почти всех заключенных перебывали у меня, прося защиты, причем справедливо жаловались на то, что их мужей держат уже месяцами без допроса, без предъявления им каких-либо обвинений. Все указывали при этом на крайне дурное, во всех отношениях, содержание в крепости и грубость и своеволие команд». Карабчевский, в связи с обращением к нему матери Вырубовой, поговорил с новым прокурором суд. пал. прис. пов. Каринским, который признал правильность обвинений: «Не знаю, как это повелось, но я застал такую картину. Караул крепости своевольничает. Он считает себя призванным не только охранять заключенных, но и контролировать распоряжения судебных властей… Ваше сообщение я очень приму к сведению, но к этому надо подойти очень осторожно. Как только удастся сменить караульный состав, я тотчас же возбужу уголовное дело». Каринский рекомендовал Карабчевскому переговорить с Муравьевым. «Я имел неоднократные с ним разговоры, встречаясь в разных законодательных комиссиях и в адвокатской», в которой председательствовал Муравьев и которая заседала в квартире Карабчевского. Муравьев соглашался, что все это очень печально, и, ссылаясь на Кронштадт, также говорил, что поневоле должен действовать крайне осторожно.
«Как-то повелось» с первых дней революционной неразберихи, что в Петропавловской крепости установилась полная «неразбериха». В протоколах Исп. Ком. от 8 марта занесено довольно изумительное заявление революционного коменданта крепости (им был шт. кап. Кривцов) о том, что они не знают, кому они подчинены, что они сами выбрали себе министерство Керенского и просят воздействовать на военную комиссию, чтобы «даны были хоть какие-нибудь директивы». Можно было бы предположить, что неразбериха оставалась и в дальнейшем и что в крепости руководились в значительной степени лишь самоучрежденным порядком, который приводил к своеволию комендантской власти, неизбежно развращавшему караул. Однако в это предположение приходится внести существенный корректив. На другой день после заслушания в Исп. Ком. «заявления» коменданта крепости и решения Комитета «предложить представителям солдатских депутатов и офицерам-республиканцам отправиться в Петропавловскую крепость для личных переговоров» в связи с постановлением об аресте Царя в назначенном местом водворения его Трубецкого бастиона, Исп. Ком. постановил сменить «для этой цели командный состав» в крепости. Вся дальнейшая закулисная сторона пока лежит вне доступного нам кругозора, – мы знаем только, что в крепости установился новый тюремный режим.
В первые дни заключения все арестованные отмечали хорошее содержание в камерах Трубецкого бастиона и отсутствие «озлобленности» и «грубости» у стерегущих: «стража оставалась прежняя, равно как и заведовавший бастионом гвардии полк. Иванишин, поспешивший нацепить на себя красный бант», – пишет Курлов. «Нам было предоставлено иметь собственное белье, постельные принадлежности, табак и книги, а также получать за свой счет стол из крепостного офицерского собрания»[124]. Утверждает Курлов, что 13 марта посетил крепость министр юстиции и, собрав всех заключенных в камерах в коридор, подчеркнул, обращаясь к Щегловитову, что новая власть не будет подражать прежнему режиму при содержании арестованных. Но «через несколько дней» стража потребовала перевода заключенных на «солдатское довольствие» и лишения их «собственных постелей и белья». Из дневника, который вел первые дня Протопопов в крепости и который был отобран новым комендантом и передан в Чрез. Ком., видно, что перемена эта произошла около 20 марта, когда стала действовать новая инструкция, выработанная или утвержденная министром юстиции: еще 15-го Протопопова посетила жена и принесла «чай, сахар, булки суш., масло и сыр». Перемену режима не приходится объяснять буйством солдат, отмеченным в дневнике Гиппиус. Скорее «буйство» явилось результатом перемены режима. Мы не знаем новой «инструкции», но, очевидно, она не отличалась революционной гуманностью. Топором не вырубить из истории революционных дней факта, засвидетельствованного будущим ангелом-хранителем заключенных доктором Манухиным (о его миссии ниже). Манухин рассказывал мне, что когда он в первый раз приехал в крепость (это было в конце уже апреля, т.е. после вопиющей сцены, зафиксированной воспоминаниями Завадского), он застал Белецкого в карцере, куда его посадили по распоряжению министра юстиции. Карцер представлял собой темную клетушку, где нельзя было ни лечь, ни сесть; давали заключенному кусочек хлеба и воду. Так Белецкий провел неделю. Когда его вывели из карцера, он весь опух, слезы наполняли глаза от света. Манухин запротестовал, как врач, против того, что «мучают» заключенных[125]. Рассказчик утверждал, что Муравьев, с покровительством и снисходительностью позже относившийся к «Степану Петровичу», отнесся скорее положительно к такому методу воздействия, который заставил бы Белецкого развязать язык. И Белецкий заговорил. Нельзя не поверить тому, что видел сам Манухин. Будем думать, что Керенский поступал так не из-за присущей ему «жестокости», и что он не знал, что его распоряжение приведено в исполнение в таких жестоких формах. Это, однако, не снимает ответственности ни с министра юстиции, ни с его сотрудников. Власть высшая направляла неразумную волю низших…