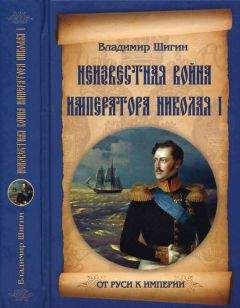Сергей Мельгунов - Судьба императора Николая II после отречения
К сожалению, Завадский не избег специфической черты всех самооправдывающихся мемуаристов – становиться в благородную позу изобличать других[116].
Объективность требует сказать, что в тех редких случаях, когда за отсутствием Муравьева в Комиссии председательствовал Завадский, характер допроса ни в предметном отношении, ни в методах, ни в тоне ничем не отличался по сравнению с тем, что было при Муравьеве. Разве только более экспансивный Муравьев имел некоторую склонность вступать в теоретические споры с допрашиваемыми и не мог удержаться от моральных сентенций, к которым, впрочем, в большей или меньшей степени склонны были почти все члены Комиссии – лица судейского звания и лица, представлявшие «общественность». Противоречие, в которое попадал сам Завадский, можно показать на примерах. Перед нами отчет допроса Щегловитова 24 апреля, прерванного в силу, быть может, справедливых, но «совершенно неуместных» нападок Муравьева. Дело касалось убийства в Одессе революционера Ишера. То был самый тяжелый момент в допросе б. министра юстиции, ибо в этом деле Щегловитов выступил как бы сознательным «укрывателем убийцы». Ишер был убит ночью, когда его, по распоряжению врем. ген. губ. Толмачева, переводили из одной тюрьмы в другую; сопровождавший арестанта конвой донес, что убийство вызвано было попыткой арестованного бежать, но в скорости один из полицейских чинов явился с повинной, заявив, что Ишер был убит по распоряжению Толмачева, приказавшего отделаться от революционера. Следствие подтвердило его объяснения, и был возбужден вопрос о привлечении к ответственности Т., дело которого было прекращено по высочайшему повелению. На заявление председателя, что Комиссии было «тяжело читать всеподданнейший доклад министра юстиции по делу Ишера», Щегловитов ответил: «Это я понимаю, это кошмарное дело…» Пред. Вы только теперь пришли к убеждение, что это кошмарное дело? Щ. Нет, и тогда оно казалось чудовищным… Пред. Но почему же по делу, которое чудовищно и кошмарно, вы находите нужным представить о его прекращении?.. Щ. Мне казалось, что вскрытие такого ужаса произведет потрясающее впечатление… Пр. Ну, а вы не думали тогда и не думаете теперь, что невскрытое такого ужаса потрясет еще более и произведет еще более потрясающее впечатление? Щ. Я думаю, вы правы… в конце концов… С именем Ишера войдет в историю и имя министра Щегловитова» – заключил председательствовавший на этом заседании Завадский.
Отказавшись присутствовать на допросе Маклакова, с которым он был лично связан еще с гимназических лет и был на «ты», и Макарова, Завадский взял на себя подготовку допроса Щегловитова, хотя и считал, что нет законного повода держать его под арестом. Роль сыграло глубоко отрицательное отношение Завадского к бывшему министру юстиции, как к какому-то «дубликату» тов. мин. вн. д., заведующему полицией. Что значило взять на себя «подготовку» к допросу? Это значит отыскать «уголовно наказуемые поступки», т.е. «криминализировать» дело, чем в отношении других подследственных занимались коллеги Завадского. Дело, следовательно, сводилось к субъективным, т.е. спорным, соображениям, а не принципиальным. Керенский и Муравьев не разделяли оценки, которую давал Завадский б. министру юстиции и внутренних дел Макарову – он считал его «неподкупным слугой закона», и поэтому Завадского «угнетали» споры в президиуме Комиссии о предании суду Макарова.
Субъективный подход с большей наглядностью обнаруживается в суждении Завадского по поводу дела Сухомлинова, поступившего в ведение Комиссии. Материал был собран до революции, и следствие закончилось вне деятельности Комиссии[117]. Прокурор, ведший дело, Носович, доложил в президиуме составленный им обвинительный акт, и Комиссия обсуждала лишь обвинительные пункты. «Я держусь того мнения, – теоретизирует автор воспоминаний, – что составить себе окончательное убеждение в чьей-либо виновности или невинности можно только, прослушав и, я бы сказал, выстрадав цельностью все судоговорение по делу, а сколько-нибудь основательно предположить о виновности обвиняемого нельзя с чужого голоса без личного и притом внимательного следствия».
И Кузьмин (сенатор, производивший следствие), и Носович (обер-прокурор уголовного касац. департ. Сената) усматривали в поведении военного министра «бездействие власти», президиум Комиссии высказался за «измену». Среди подавших голос за составление обвинительных пунктов по признакам «измены» был и сенат. 3авадский, высказавшийся так «после большого раздумья». И хотя эту нелогичность автор воспоминаний пытается объяснить тем, что у него не было основания считать Сухомлинова несведущим в военном деле, крайне ограниченным или поразительно легкомысленным, следовательно, оставалось лишь «предательство» – неудовлетворенность от объяснения остается, и к судейской совести автора может быть предъявлено обвинение не в «запросе» [118], а в подчинении настроениям момента, т.е. в том самом, в чем он систематически посылает упрек «свободолюбящему» революционному «правосудию». Завадский подал голос и за предание суду жены Сухомлинова: «Она была оправдана, и я не отрицаю, что улики против нее были невелики… но внутренний голос говорил мне против непричастия ее к вине мужа, и высказаться за ее оправдание до главного разбирательства я не решался».
Я не очень верю показаниям мемуаристов, пытающихся провести резкую грань между двумя группами в составе Комиссии: «Одну – по мнению Романова – стремившуюся со свойственной судейской профессии привычкой, к объективному выяснению истины, и другую, возглавлявшуюся Муравьевым, – желавшую всеми правдами и неправдами, во что бы то ни стало установить преступность всех и вся и отомстить всем деятелям старого режима. Ни о каком правовом русле у лиц этого направления не было и речи. Муравьев хватался в отчаянии за голову, когда я и сен. Смиттен доказывали отсутствие в том или ином деле указаний на признаки преступления со стороны прежней власти. Эта группа, к которой принадлежали почти все наблюдавшие, выискивала преступления, где только могла, и, надо отдать им справедливость, некоторые на этом пути проявили фанатическое рвение, не считаясь ни с чем и усматривая преступление чуть ли не в самом факте существования прежней власти». И на примере Завадского читатель видел, что для такого скептического отношения к подобным показаниям современников есть основание.
«Изначальная нелепость», которая лежала в основе Чрез. Сл. Ком., породила величайшие нелепости в ее делопроизводстве – именно то, что можно назвать юридической казуистикой. Но тот факт, что для обвинения приходилось «нащупывать» уголовно наказуемые поступки или пытаться «наскоблить», по более циничному выражению Коренева, какую-нибудь уголовщину, показывает, что Комиссия строго держалась намеченных рамок, и председатель ее никогда не форсировал самый закон, как в том склонны его упрекать все, писавшие до сих пор о Комиссии. Не чужд этого даже Маклаков. Было бы «скандалом», как выражается он, «если бы деятельность Комиссии свелась к привлечению отдельных представителей власти за злоупотребления, и Муравьев, по мнению первого кандидата на пост представителя Комиссии, должен был употребить свой адвокатский опыт, чтобы превратить политические разногласия в юридическую ответственность. Маклаков останавливается на роспуске Думы по заранее заготовленным белым бланкам, т.е. по указам, подписанным Императором без обозначения точных дат, которые должен был проставить председатель совета министров, и о применении ст. 87 в текущем внедумском законодательстве. Вопросы эти оживленно дебатировались, и не раз, в Следственной Комиссии. Но следует иметь в виду, что речь здесь может идти о некоторых репликах, которые подавал председатель Комиссии при допросах, и о личной, пожалуй, тенденции, а отнюдь не о сформулированном обвинении. А это – существенная разница. При двойственности задачи, поставленной себе Комиссией, процесс «криминализации», неизбежно связанный с юридической казуистикой, трудно иногда отделить от выяснения обстановки, т.е. от рассмотрения вопроса с точки зрения «общественной совести». Маклакову представляется, что ничего ненормального не было в этих «бланковых указах». Он вспоминает, что был так удивлен, когда ему подобный вопрос поставил следователь, что позволял себе в письменном ответе несколько подсмеяться и рассказать, как ему на положении адвоката не раз приходилось такие белые бланки давать своему коллеге Муравьеву и получать таковые от Муравьева, текст которых заполнялся в зависимости от надобности. Как будто бы небольшая разница все же имеется между гражданскими делами, которые вели московские адвокаты, и государственной жизнью. Для характеристики политического строя эти бланки были довольно показательным явлением, и председатель Комиссии, оставляя вопрос о криминализации в стороне, имел до некоторой степени право во много раз уже цитированном докладе отметить «интересное наблюдение», вытекавшее из материалов Комиссии: еще до момента роспуска Думы «каждый раз за последние годы (здесь Муравьев обобщал)… до ее функционирования в ту или иную сессию министры старого режима уже озабочивались получить подписи Царя под текстом незаполненным на бланках, которыми этим министрам предоставлялось право распустить Гос. Думу. Сперва это несколько вуалировалось… сперва испрашивалось разрешение распустить Гос. Думу и Гос. Совет, по соглашению с председателями этих учреждений, тогда, когда этого потребуют обстоятельства». Термин «роспуск Думы» способен вызвать недоразумение – речь шла или о временной отсрочке заседаний, которой правительство пользовалось для того, чтобы «творить законодательство в порядке ст. 87», «стремясь всемерно к одному – к осуществлению такого строя, который предшествовал строю 1905 – 1906 гг. …» «Стали искусственно не созывать Гос. Думу, стали искусственно укорачивать ее сессии. Дошли до того, что вырабатывали проекты для Думы и выработанные проекты держали в портфелях, пока Дума существует, для того, чтобы внести их без Думы… в этот период бездумья». С точки зрения «общественной», едва ли председатель Комиссии значительно уклонялся от истины; с точки зрения «криминализации режима», дело оказывалось сложнее уже потому, что и правительство и Дума оказывались как бы в заколдованном круге. Этот заколдованный круг Милюков в показаниях о применении ст. 87 охарактеризовал словами: «Я считаю, что наше законодательство не могло существовать, когда существовали эти два тормозящие друг друга органа, когда правительство было глубоко враждебно самой идее сколько-нибудь серьезного законодательства… Так как мы старались заниматься основным законодательством, то мы этого нормального законодательства не могли вести и вермишель нас не интересовала…» Последний председатель Гос. Думы рассказал в своих воспоминаниях характерный эпизод, как он убеждал носителя верховной власти приобрести «пять сверхдредноутов» в период бездумия. «Ну а как же Дума, ведь она распущена, – сказал Царь, – придется эту покупку провести по 87 й, с Думой выйдут неприятности». «Ваше Величество, – отвечал Родзянко, – я вам ручаюсь, что Дума будет только аплодировать». Во время войны подобная практика применения ст. 87 становилась «необходимостью». Так и «Особое Совещание», которое приветствовала общественность, было создано в исключительном порядке. Сама Гос. Дума «никогда» не возражала на «традиционную систему» (показания Милюкова, Родзянко, Чхеидзе) – «бланки» существовали при всех премьерах, за исключением, быть может, Коковцева, который в этом отношении был «педантом», как выразился Родзянко. Но и в показаниях председателя Думы надлежит ввести ограничение – в дни сенсационной ноябрьской сессии Гос. Думы 16 г. ненавистный общественности Штюрмер действовал не на основании имевшегося заранее «белого бланка», а испрашивал особое высочайшее повеление (оно было получено после открытия Думы). С правовой точки зрения вопрос сводился к оценке действовавшей конституции – здесь были две диаметрально противоположные концепции. Для одних царское самодержавие не было ограничено, и Царь конституции не присягал; для других основные законы 1906 г. вводили нормальный конституционный строй, ставивший пределы самодержавию и устанавливавший ответственность министров за нарушение конституции. Муравьев, конечно, становился на вторую позицию – и не он один в Комиссии (Родичев предъявлял Штюрмеру обвинения массового пользования ст. 87, вопреки основным законам). «Представитель верховной власти является лицом безответственным, ответственным является тот министр, который докладывает ему», – поучал Муравьев Щегловитова. «Председателю Совета Министров принадлежит право, а, может быть, вменяется в обязанность заботиться о том, чтобы акты верховной власти были правоверны», – говорил он Горемыкину. «Может быть, – отвечал бывший премьер. – Нет, это даже наверно». И министрам вменялось в ответственность, что они не говорили: «non possumus», тогда как в России «деспотии» не было. Они были виноваты в том, что делали доклады Императрице, тогда как никакой «связи законной» между министрами и Императрицей по конституции быть не могло… и министры должны были отвечать Императрице на я запросы, что они не относятся к ее “компетенции”».