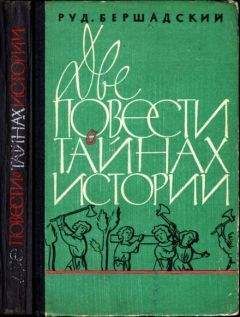Е Мурина - Ван Гог
Еще Ницше писал о "семиотике звуков" 26 в музыке Вагнера. Ван Гог стремится к чему-то подобному в отношении цвета.
Как всегда, фигуры - "единственное в живописи, что волнует меня до глубины души: они сильнее, чем все остальное, дают мне почувствовать бесконечность..." (516. 375). И вот он предпринимает неслыханное изображение людей в этой цветовой системе. Он знает, что рискует потерять тех немногих желающих ему позировать, но проверить ее на фигуре Ван Гогу необходимо. "Мне хотелось бы писать мужчин и женщин так, чтобы вкладывать в них что-то от вечности, символом которой был некогда нимб, от вечности, которую мы ищем теперь в сиянии, в вибрации самого колорита" (531, 390).
Ему позирует его новый приятель лейтенант зуавов Милье, с которым они иногда вместе рисуют на холмах Монтмажура, - кумир арлезианок и, как думает Ван Гог, образец здоровья и нерассуждающей мужественности ("Портрет Милье", F473, музей Крёллер-Мюллер). Зеленый цвет фона, взятый в полную силу и словно излучающий свет, действительно окружает голову Милье подобием "нездешнего" сияния.
Тяга к портрету, вытекавшая, быть может, из его страсти к изучению лица, к постижению того, что выражают человеческие черты, была "архаикой", возвратом назад. Современная ему живопись отступалась от портрета. Уже импрессионистов человек занимал как часть меняющейся жизни - человек без прошлого и будущего. Ван Гог по-своему тоже ограничивает "поход" внутрь человека, такой бесконечно проникновенный у его кумира Рембрандта: "Я не стремлюсь достичь сходства, но только страстного выражения" (В. 5) 27. Вот почему ему нужна дружба или симпатия к модели, разумеется, художническая. Ведь речь идет не об индивидуальности каждого, а скорее, о причастности к роду человеческому. Говоря о портретах Ван Гога, М. Шапиро пишет: "Их индивидуальность уже заключена в их человечности, и человек значим и неповторим, как листья на одном и том же дереве" 28.
"Страстное выражение" достигается накалом колорита, жесткостью угловатых силуэтов, контрастирующих с фоном. Все в этих портретах Ван Гога противостоит салонной сглаженности, столь ему ненавистной. Дважды он пишет зуава "с крошечной мордочкой, лбом быка и глазами тигра" (501, 363), как он описывает его Тео, прибегая к физиогномическим сравнениям с животными, столь характерными для эстетики дальневосточного портрета. В одном, погрудном портрете зуава Ван Гог, исходя из особенности модели, пишет "кричащий и даже вульгарный портрет", где сочетается несочетаемое - краплак с зеленым и оранжевым, и где человек выглядит довольно экзотическим сгустком витальных сил ("Горнист полка зуавов", F 423, Амстердам, музей Ван Гога). Такой же повышенной жизненной экспрессией наделяет Ван Гог и другой портрет - "Зуав" (F424, Нью-Йорк, собрание А. Д. Ласкер), в котором яркая фигура на фоне сверкающей белой стены и красного плиточного пола, решенного в обратной перспективе, напоминает "жестокие" японские портреты.
Линию "японизирующего" портрета продолжает "Мусме" (F431, Вашингтон, Национальная художественная галерея) - "это японская или, в данном случае, провансальская девушка лет 12-14" (514, 374) (в рисунке - "Сидящая Мусме", F1504, Москва, ГМИИ им. А. С. Пушкина, заметим, кстати, совсем японская). Ван Гог находит для этого образа соответствующие цветовые эквиваленты: лиловый с кроваво-красными полосами корсаж, синяя с оранжевыми горохами юбка, тело - серо-желтое, волосы лиловатые, глаза и ресницы - синие. Все это в сочетании с белым фоном создает броский, тревожно волнующий образ того, что воплощает "Мусме" - пробуждение "вечно женственного".
Характерно, что портреты друзей Ван Гог решает в сине-желтой гамме, в цветах любви и вечности. Таковы портреты почтальона Рулена, его единственного друга, человека "уродливого, как Сократ", но наделенного горячим сердцем, пламенного республиканца в духе 1789 года ("Портрет почтальона Рулена", F 432, Бостон, Музей изящных искусств; F433, Детройт, частное собрание). Этот герой многих портретов полностью соответствует романтическим представлениям художника о "нормальных людях", к которым он относит немногих: "бастующих землекопов, папашу Танги, папашу Милле, крестьян" (520, 381) 29.
Но, конечно, апофеозом этого стремления выразить "сияющую" сущность человеческого явится портрет бельгийского художника Эжена Боша (F462, Париж, Лувр), в котором Ван Гог превратился в "необузданного колориста" (520, 380). Фигура Боша, как отметил Гоген, написана одними хромами - "лицо и волосы - желтый хром I. Одежда - желтый хром II, галстук желтого хрома III с изумрудной булавкой" 30. Вся эта излучающая теплый свет полуфигура контрастирует с глубоким синим фоном, усеянным желтыми звездами и долженствующим вызывать мысли о "бесконечности". "Эта нехитрая комбинация светящихся белокурых волос и богатого синего фона дает тот же эффект таинственности, что звезда на темной лазури неба" (520, 380).
Когда-то Альбер Орье, поборник символизма, объявил "сияющие, сверкающие симфонии его красок и линий ...простым способом символического изображения" 31. Это не совсем так. Если нам и приходит мысль о "звезде на темной лазури неба", то дело здесь не в простой символике, а в эмоционально-символическом действии всего цветового ансамбля в целом.
Правда, понимая образность, суггестивность цвета как его субстанциональное качество, Ван Гог действительно нередко сводит свою задачу к "нехитрым комбинациям" контрастирующих дополнительных цветов. Для него краска, выжатая из тюбика и стремительным движением руки накладываемая на холст, сама собой превращается в цвет. И его неистовство и варварство в использовании красок, даже с чисто количественной точки зрения, было связано с его верой в магические способности цвета как такового.
Как уже говорилось, Ван Гог исходит из того, что "невозможно давать и валеры и цвет... нельзя одновременно пребывать и на полюсе и на экваторе". А вот Сезанн как раз этого добивался, и его мучения во многом были связаны с его стремлением давать и валер и цвет. Это и был конкретный путь соединения классики с импрессионизмом, увековечивший Сезанна как открывателя универсальных (во всяком случае, в пределах XX в.) закономерностей построения цветовой гармонии. Для импрессионистов и особенно для Сезанна цвет - атрибут пространства, и контрасты дополнительных цветов имели значение с точки зрения построения колорита, основанного на модуляциях от теплых к холодным, объективно присущих природе. "Надо не моделировать красками, а модулировать краски", - говорил он. То есть не "лепить" красками форму, а гармонизировать их от холодных к теплым, работая, как музыкант, на всех регистрах. Ван Гог, строго говоря, комбинирует краски. Искусство гармонизации у Ван Гога в этот период - это именно искусство комбинирования, поскольку смысловая функция колорита в его работах связана с характером сочетания цветов между собой по принципу резких контрастов. Именно потому колорит каждой его работы мог быть и нередко являлся результатом и, во всяком случае, предметом логического и смыслового обсуждения, что мы видим по его письмам. Он сам говорил, что, работая в Арле, "в некоторой степени пытался разрешить вопросы теории цвета на практике" (590, 464). И в самом деле, идея контраста желтого и синего (голубого), красного и зеленого, оранжевого и лилового определяет связь и отношения красок во всех его картинах этого периода, являясь гораздо более упрощенным вариантом тех цветовых отношений, которые бесконечно сложны и многообразны в природе или у таких фанатиков непосредственного наблюдения природы, как Клод Моне или Сезанн.
Эту особенность Ван Гога, в принципе отличающую его от сезанновского метода, подметил Рильке в своих "Письмах о Сезанне": "Если письма Ван Гога читаются так хорошо, если в них так много значительного, это, в сущности, говорит не в его пользу, как и то, что он (в отличие от Сезанна) понимал, чего он хотел, знал, добивался; он, любопытный, подсматривая за тем, что совершалось в самой глубине его глаз, увидел, что синий зовет за собой оранжевый, а за зеленым следует красный. Так он писал картины ради единственного контраста, учитывая при этом и японский прием упрощения света, когда плоскости располагаются по возрастанию или убыванию тонов, а затем оцениваются в совокупности, что в свою очередь ведет к слишком подчеркнутому и явному, то есть придуманному контуру японцев, обводящему равнозначные плоскости, а, следовательно, лишь к предвзятости, к своеволию и, кратко говоря, к декорации" 32. Бесспорное предпочтение Сезанна обострило критический пафос Рильке по отношению к Ван Гогу, и его наблюдение как бы вменяется в вину Ван Гогу. И хотя речь идет об особенности, которая вытекает из своеобразия его творчества в целом, надо отдать должное Рильке, подметившему "ахиллесову пяту" Ван Гога, пункт его наибольшей уязвимости.
Действительно, Сезанн является непревзойденным мастером колоризма, исходящим в своих цветоконструкциях из наблюдения пространственно-пластической сути природы, с убежденностью, однако, в том, что "искусство является гармонией, параллельной природе" 33. Характерно, что Сезанн, понимавший цвет именно как "модус материи", в процессе гармонизации колорита одухотворял его своим придирчивым мастерством. Ван Гог, напротив, представлявший цвет, как данный ему модус духовности, занимается его овеществлением, опредмечиванием, чтобы придать своим метафизическим цветовым ощущениям физическое бытие, материализовать их, доводя иногда эту материализацию почти до грубо натуралистического эффекта. И если сезанновские цветоконструкции возникают и вырастают из глубины его полотен, как драгоценные кристаллические образования 34, то у Ван Гога мы видим деструктурную, массовидную живописную "магму", сгущающуюся в предметы словно бы под воздействием динамической жизненной силы. Цветовое пространство Сезанна - строящая, воссоздающая среда. (Не зря про него говорят, что он породил архитектуру XX века.) Цветовое пространство Ван Гога, уплощенное, предельно насыщенное "знаковым" веществом, - передающая среда. Это и понятно: первый стремился к совершенству, второй - быть понятым, услышанным- причем, любой ценой, любыми средствами, доступными художнику. Он форсирует цвет и - особенно в последний период - нещадно "эксплуатирует" живопись, заставляя ее вопить, взывать, внушать.