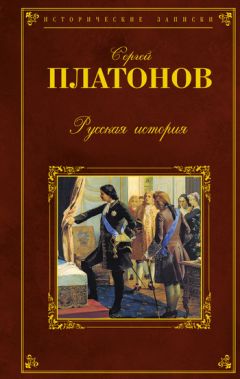Франсуа Фонтен - Марк Аврелий
Неподвластная Германия
Это была проблема неподвластной, неустойчивой Германии, вечно беспокойной и уже беспокоящей, то надолго засыпающей, то вновь просыпающейся. Почему она время от времени привлекает к себе беспокойное внимание соседей, а потом надолго про них забывает, замыкаясь в себе? Можно, правда, спросить, зачем Юлий Цезарь, а потом Август будили ее. Они бы на это возразили: а что было делать кимврам и тевтонам в полях Италии? Эта распря не кончалась. Германцы требовали права передвижения на произвольно обширном пространстве, а римляне решили, что наступил момент закрепить свои владения: Рейн и Дунай были прекрасными естественными границами, выход к которым дался дорогой ценой. В качестве мер предосторожности они хотели бы окружить их ненаселенными зонами или государствами-клиентами. Но у германцев не было государств и властей, с которыми можно было заключать надежные договоры. На самом деле римляне не знали об этом обществе почти ничего, и нам до сих пор трудно понять, как оно было устроено и функционировало. Поразительно, что современным историкам все еще приходится черпать значительную долю информации в «Германии» Тацита, зная, что во всем этом остроактуальном сочинении автор упражнялся в двусмысленных намеках, превознося добродетели варваров только затем, чтобы пристыдить римлян за легкомыслие.
Это была этнография на службе морали и политики. Ей не приходится доверять, но завораживает магия стиля: «Германия отделена от галлов, ретов и паннонцев реками Рейном и Дунаем, от сарматов и даков — обоюдной боязнью»…[43] «Населяющие Германию племена… составляют особый, сохранивший первоначальную чистоту и лишь на себя самого похожий народ». Римлян эта непохожесть ни на кого сбивала с толку: углубляясь в страну, которая «ужасает и отвращает своими лесами и топями», они теряли всякие ориентиры. Как иметь дело с людьми, у которых нет городов, которые вообще «не терпят, чтобы их жилища вплотную примыкали друг к другу»? Честно говоря, подобные вопросы смущают нас до сих пор. Устойчивость примитивных условий жизни германцев при контакте с богатым, уже больным от чрезмерной урбанизации миром предполагает редкую волю оставаться собой. Ни состояние земельных ресурсов и недр, ни климат не объясняют такую отсталость; умственные способности людей тут также явно ни при чем. Германцы никак не могли быть глупее кельтов, место которых заняли в своих областях Европы. Но кельты, переселившиеся к западу, стали предприимчивыми галлами, после недолгого сопротивления принявшими прогресс, несколько грубовато донесенный до них римлянами. Почему же другая ветвь индоевропейцев, дошедшая до верхнего течения Рейна, Эмса, Везера, Эльбы, Одера и Вислы, ничего не желала знать о римских законах, судах и технике, уже три столетия процветавших на несколько десятков — самое большее, несколько сотен — километров дальше?
Объяснить это мы по-прежнему не можем, и наше недоумение станет еще сильнее, если мы обратим внимание на устойчивость элементарных форм политического и общественного устройства у германцев в течение еще нескольких столетий — до вестготов при Аларихе. Можно даже задуматься вместе с Тацитом, что же это за ценности, противостоящие так называемой цивилизации и так назойливо ее влекущие? Мы не будем здесь в очередной раз начинать неистощимый философский диспут о преимуществах природного состояния. Для осмысленных параллелей у нас слишком мало документов. Между прочим, сама эта бедность — чрезвычайно интригующий факт: картина общества, не имевшего письменности (только со II века появляются обрывки завезенных туда рукописей), монеты (обнаруженные римские монеты служили только для украшения, а весь обмен оставался натуральным), развитого искусства (найденные клады состоят из награбленных или полученных в «подарок» римских и греческих ювелирных изделий) с виду не вяжется с постоянным массовым возбуждением, характерным для этого народа. Вернее было бы сказать «народов»: само понятие политического или кровного единства в этой картине также отсутствует.
Историческая туманность
Германцы действительно сами себя так не называли и даже не знали общего названия, которое им давали античные географы. Это был агломерат самостоятельных племен, совершенно независимых и часто враждебных друг другу. Очень поздно к ним пришла мысль объединиться для обороны или, как они считали, против желания римлян подчинить их своим законам. Несчастье Марка Аврелия было в том, что именно в его царствование они осознали свои общие интересы, а его энергичная контратака это ускорила. В тот момент те, кто потом назвал себя аламанами («всеми людьми»), были маленьким незначительным племенем. Но по некоторым признакам мы можем догадаться, что после Цезаря и Тацита многое изменилось, хотя на вид структура общества оставалась стабильной. Со времен Августа и Тиберия расхождение между фактическим состоянием общества и древней общинной мистикой занесло в поведение германцев споры шизофрении. Еще неясные геополитические явления вскоре толкнули их в безудержную гонку.
До недавнего времени историки не понимали, что описания Цезаря и Тацита следует понимать двойственно. Совершенно верно, что германцы не знали частной собственности, что у них существовало нечто вроде непосредственной демократии. Небольшие общины свободных людей собирались на собрания, на краткие периоды времени распределявшие пахотную землю и скот. Цезарь толковал это как стремление избежать соблазнов оседлости и собственности, но современные этнологи могут отыскать этому и другие объяснения. Собрания избирали вождей (в некоторых случаях — королей), а на время войны — военачальников; все они теоретически были временными и сменяемыми. «О делах, менее важных, — пишет Тацит, — совещаются их старейшины, о более значительных — все; впрочем, старейшины заранее обсуждают и такие дела, решение которых принадлежит только народу». В этом можно признать референдум по инициативе правительства, с той разницей, что правительство здесь было слабым, а собрание не имело лидеров. Но история странным образом показывает, что процесс укрепления власти пошел другими путями. Общепризнанную власть создавал не общий интерес, а индивидуальная инициатива и престиж предприимчивого деятеля.
В самом деле, в этой исторической туманности можно различить возникновение параллельной системы власти на основе личной отваги и успеха, которая, не противопоставляя себя явно старым ячейкам племенного общества, формируется внутри нее, а впоследствии занимает в ней преобладающее, подавляющее место. Для этого нужно только, чтобы один из воинов встал и предложил отправиться в поход за его собственный счет вместе с товарищами, которые разделят риск и выгоду от предприятия. Это система, которую Цезарь описал так: «Один вождь, один поход, один отряд». Возможно, ее следует рассматривать как спусковой клапан для индивидуальной энергии, хотя риск был велик для всего племени. Никто, правда, не боялся государственного переворота, потому что понятия не имел о государстве, но удачные набеги неизбежно обогащали предводителей командос и привязывали к ним клиентуру, жившую захваченной добычей — зерном, скотом и рабами. Частная собственность вгрызалась в общество, как червь в яблоко. Возникала новая легитимность, рождавшая верноподданнические чувства. Тацит писал, что большинство собирается вокруг уже отличившихся в боях, после чего «вожди сражаются ради победы, дружинники — за своего вождя».
Так родилось западное феодальное общество, а с ним и грабительский — он же рыцарский — дух. Если так, мы поневоле должны читать Тацита иначе. Мы увидим не доблестных воинов, а бандитов: «Когда они не ведут войн, то много охотятся, а еще больше проводят время в полнейшей праздности, предаваясь сну и чревоугодию». Они заядлые игроки: «Потеряв все свое достояние и бросая в последний раз кости, назначают ставкою свою свободу и свое тело». Их сила может сравниться только с их же изнеженностью: «Жесткие голубые глаза, русые волосы, рослые тела, способные только к кратковременному усилию; вместе с тем им не хватает терпения, чтобы упорно и напряженно трудиться, и они совсем не выносят жажды и зноя».
Марк Аврелий, несомненно, читал и «Германию», но в основном практические советы брал из «Анналов». Там он мог найти картину третьей, гораздо более знакомой ему формы власти, служившей прообразом той, с которой ему предстояло столкнуться. Король богемских маркоманов был единственным германским вождем, который мог тягаться с римлянами. У Тацита его зовут Маробод, и он бросил вызов Августу. Впрочем, он, как и его преемник времен Марка Аврелия по имени Балломар, был «другом римского народа». Но логика власти, а также провокации римлян и собственных мелких вассалов — искателей приключений увлекли его. Открытие в Империи второго фронта отсрочило падение Маробода, принудив Тиберия заключить с ним компромиссный мир. Он кончил свои дни политическим изгнанником в Равенне.