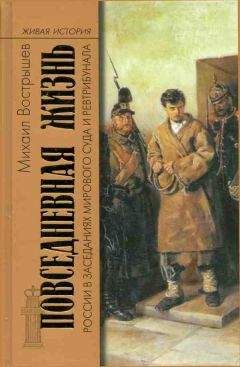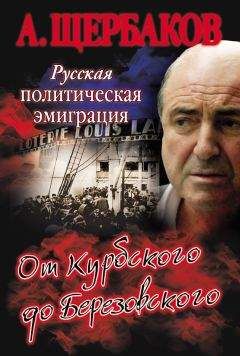Алексей Зверев - Повседневная жизнь русского литературного Парижа. 1920–1940
При всем недоброжелательстве критики, которое Цветаева чувствовала, читая отклики на свои публикации, книга была воспринята как литературное событие — спорили только о том, радоваться по этому поводу или скорее вздыхать. Слоним радовался: «Трагическая муза Цветаевой идет по линии наибольшего сопротивления», ее романтический максимализм — явление уникальное. Ходасевич был гораздо более сдержанным. «Причитание, бормотание, лепетание, полузаумная, полубредовая запись» — все это было абсолютно не в ладу с художественной гармонией, которую он считал первым достоинством настоящей поэзии. Кроме того, ему все время слышались чужие голоса — Мандельштам, Пастернак, Блок, Белый, какой-то невозможный конгломерат, за которым исчезает личность самой Цветаевой. Но тем не менее он признал, что это крупная, цельная и по-своему замечательная личность. И, завершая разбор, Ходасевич пишет: «Сквозь все несогласия с ее поэтикой и сквозь все досады — люблю Цветаеву».
Примерно на такой же ноте закончил свою статью о книге и Адамович, однако сколько яда предшествовало его милостивому финальному суждению. «Нельзя все-таки сомневаться, что Марина Цветаева поэт — и даже редкий поэт». Все предшествующее этой фразе заставляет не поверить, что она вправду выражает мнение писавшего. Ведь до нее говорилось лишь про «истерически-экстатические вскрики», «судорожную речь», «слегка-хмельные богемно-литературные признания», про «бред, очень женский и очень декадентский». Лирика Цветаевой, новаторская по всему своему ладу, была названа «архи-вчерашней». Адамович утверждал, что это быстро вянущий цветок, — нечастый для него пример предсказания, исполнившегося с точностью до наоборот.
Вряд ли всему причиной стала жажда мести за недавнюю обиду, за «Цветник». Тут столкнулись абсолютно разные представления о том, что собой представляет поэзия. Было обоюдное глухое непонимание, так и не преодоленное ни ею, ни им — до самого конца.
Бесконечные сетования на то, что она пишет, намеренно игнорируя читателя, если тот далек от посвященных в тайны ремесла, огорчали Цветаеву больше, чем все отравленные комплименты. Ее преследовало такое чувство, что многие испытали бы удовлетворение, если бы она перестала писать стихи. Этого не произошло, хотя после 1928 года клирике Цветаева обращалась все реже, — ею завладели другие замыслы. Стихов появлялось немного, была пора — незадолго до конца ее парижской жизни, — когда они не появлялись совсем. Но зато среди этих последних стихотворений есть несколько таких, которые войдут в любую антологию русской поэзии, составленную по самым жестким критериям отбора. Хотя бы вот это стихотворение 1934 года, выразившее самое сокровенное и непритупляющееся цветаевское чувство:
Тоска по родине! Давно Разоблаченная морока!
Мне совершенно все равно —
Где совершенно одинокой
Быть, по каким камням домой
Брести с кошелкою базарной
В дом, и не знающий, что — мой,
Как госпиталь или казарма.
Поэтическое вдохновение не покинуло Цветаеву, но все-таки последние ее эмигрантские годы — это по преимуществу время прозы: мемуарной, эссеистской, лирической, а чаще всего такой, для которой трудно подобрать определение жанра. Оно, впрочем, едва ли и требуется, потому что сама Цветаева сказала, что такое проза поэта: вовсе не «проза прозаика, в ней единица усилия (усердия) — не фраза, а слово, часто даже — слог)». Все то, что Цветаева считала обязательными качествами настоящих стихов, сохраняло свою обязательность и для ее прозы: неожиданность, яркость метафоры, способность одухотворять самые простые вещи, а вместе с тем достигать зримости, конкретности рассказа о тонких, почти неуловимых побуждениях сердца. Движение мысли, непременно соотнесенное со звучанием слова и часто даже им подсказанное. Лиричность настолько открытая и неослабевающе напряженная, что возникает чувство, словно это уже не литература, а документ, который для автора обладает каким-то сокровенным смыслом. Аналогов такой прозы нет во всей русской литературе двух последних столетий, да, пожалуй, в европейской тоже.
Личность Цветаевой узнается на этих страницах сразу, и не только по стилистике. «Единственная обязанность на земле человека — правда всего существа», — заканчивает она свой очерк о вечере Кузмина в далеком, почти сказочном январском Петербурге 1916 года. Если понадобится формула, обобщающая самое главное в ее характере и судьбе, более точной, наверное, не подобрать. А в «Повести о Сонечке», во второй ее части, оконченной перед самым отъездом, есть другая формула, приоткрывающая тайну неподражаемой достоверности картин и эпизодов, которые как будто не вызваны из прошлого напряжением памяти, а написаны по живому следу событий. «Чем больше я вас оживляю, — пишет Цветаева, обращаясь к своей героине, актрисе, с которой она познакомилась в страшную зиму 1919 года, — тем больше сама умираю, отмираю для жизни, — к вам, в вас — умираю. Чем больше вы — здесь, тем больше я — там. Точно уже снят барьер между живыми и мертвыми, и те и другие свободно ходят во времени и в пространстве — и в их обратном. Моя смерть — плата за вашу жизнь. Чтобы оживить Аидовы тени, нужно было напоить их живой кровью. Но я дальше пошла Одиссея, я пою вас — своей».
Вот такого усилия, гибельного едва ли не в буквальном значении слова, требовала, по Цветаевой, «правда всего существа». Зато творческий результат оказывался уникальным. Ходасевич это понял глубже всех и, придирчивый к стихам Цветаевой, о ее прозе отозвался как о новом слове в литературе. И даже Адамович заметил, что, обращаясь к прозе, «Цветаева расцветает».
Оттенок ехидства есть и в этом каламбуре, однако есть и восторг: иначе Адамович не написал бы, что это «не мемуары, а жизнь, подлинная, трепещущая, бьющая через край». Трепещущей, словно бы не исчезнувшей в летейских водах жизнью все это и вправду было — давно разобранный на доски дом в Трехпрудном переулке, где когда-то жил знаменитый историк Иловайский, а сестры Цветаевы, Марина и Ася, провели свои ранние годы, их рано умершая мать, олицетворение романтики, самопожертвования и артистизма. Майский день 1912 года, когда в присутствии царской семьи открывали созданный профессором Цветаевым Музей изящных искусств имп. Александра III, который теперь носит имя Пушкина. Кузмин за роялем в зимние петербургские сумерки, коктебельское полдневное солнце и массивная фигура Волошина на пустынном берегу, где его гости ищут сердолики. Андрей Белый, который несется по лестницам Тео и Наркомпроса, «оставляя в глазах сияние, в ушах и волосах — веяние», и он же под Берлином, среди неуюта какого-то новорожденного поселка: измученный мыслями о возвращении в красную Москву, на ходу роняющий гениальные идеи, чтобы тут же о них забыть, поразительно жадный к «миру действия», но сам неспособный ни на одно продуманное и разумное действие — истинный «пленный дух».
«Стиль есть бытие: не мочь иначе», — занесено Цветаевой в записную книжку примерно того же времени, когда проза стала ее основным литературным занятием. Как раз стиль сумели оценить лучшие из критиков Зарубежья, но лишь годы спустя было понято, что для нее стиль — это бытие, побеждающее быт. А поначалу, восхищаясь артистизмом, смелыми ассоциациями, внезапными художественными ходами, которых так много в ее повествовании, по привычке всё пытались обнаружить за рассказом о былом и о людях, принадлежавших ушедшей эпохе, какую-то злободневную левую тенденцию и скрытую враждебность к эмиграции, которой никогда не простили бы те, кто притязал на роль духовных и общественных лидеров зарубежной России. Даже в ее эссе о Пушкине, писавшихся к печальному юбилею 1937 года — столетию со дня гибели, — искали политику, подозревая, что где-то в подтексте притаилась все та же мучившая Цветаеву тема: дикость, невозможность «живьем изъятости из живых», как сказано в очерке о художнице Наталье Гончаровой.
Что такое эта «изъятость», Цветаева знала не понаслышке. А вскоре события повернутся так, что подобная ситуация станет для нее обыденным положением вещей.
* * *Жизнь в эмиграции меняла многое и многих. Вчерашние атеисты становились истово верующими, убежденные русские патриоты готовы были примириться с исчезновением России ради того, чтобы сгинул ненавистный коммунистический режим («хоть с чертом, но против большевиков», по афористическому выражению, которое повторяли на всех углах). А герои добровольчества вдруг становились энтузиастами строившейся в СССР «новой жизни» и пошли бы на все, чтобы получить в советском посольстве документ, позволяющий вернуться на родную землю.
Тут сплелись разные причины. Главной, конечно, была тоска по Отечеству, становившаяся невыносимой по мере того, как ясным делалось самое главное: жестокая перемена, которая произошла в октябре 17-го, это свершившийся исторический факт, и все надежды на то, что лихолетье скоро закончится, ни на чем не основаны. Поняв это, одни пробовали сохранить былую Россию в своем сердце, старались по возможности жить так, точно бы французского окружения не существует. Другие строили безумные расчеты, основанные на идее реванша любой ценой. Третьи мирились со свершившейся катастрофой и хотели себя убедить, что это не катастрофа, а великий новый этап русской истории. Надлежало покаяться в своих прежних заблуждениях, проникнуться новыми верованиями и по мере сил содействовать благоденствию страны, объявленной первым социалистическим государством на планете.