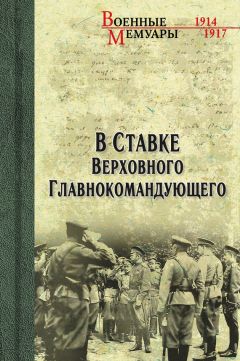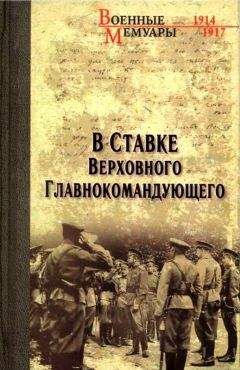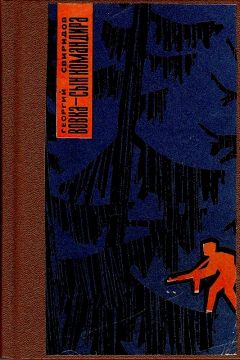Нина Молева - Семь загадок Екатерины II, или Ошибка молодости
Современники сравнивали Машеньку и с итальянскими певицами — у нее красивый, хорошо разработанный голос, и с французскими драматическими актрисами — у нее превосходный сценический темперамент. „Мария Алексеевна, — пишет в декабре 1777 года М.Н. Муравьев, отец будущих братьев-декабристов, — много жару и страсти полагает в своей игре“. И никто не остается равнодушным к ее изящным и совершенным по литературной форме экспромтам. Безнадежно влюбленный в Дьякову поэт Хемницер посвящает ей первое издание своих басен и тут же получает ответ:
По языку и мыслям я узнала,
Кто басни новые и сказки сочинял:
Их истина располагала,
Природа рассказала,
Хемницер написал.
Пусть Дьяковой далеко до живших в те годы женщин-поэтесс Александры Ржевской-Каменской или Елизаветы Нероновой-Херасковой. Она не посвящает себя поэзии, но у нее есть ясность мысли, простота слога и тот разговорный, без славянизмов и выспренных оборотов язык, который введут в обиход русской литературы поэты окружения Н.А. Львова.
В 1778 году Левицкий напишет ее портрет, и граф Сегюр снабдит оборот холста восторженными французскими строками. В русском переводе они звучат так:
Как нежна ее улыбка, как прелестны ее уста,
Ничто не сравнится с изяществом ее вида.
Так все говорят, но что в ней любят больше всего —
Это сердце, во сто крат более прекрасное, чем синева ее глаз.
Со временем автор этого посвящения, французский посол в Петербурге, начнет пользоваться особым расположением Екатерины. Под полным своим титулом графа де Сегюр д’Арекко он напишет для императрицы собрание не лишенных литературных достоинств пьес „Эрмитажный театр“. Но при первой встрече с Дьяковой граф еще полон идей освободительной войны в Америке, в которой сам принимал участие. И эти вольнолюбивые мечтания делают его желанным гостем бакунинского дома.
На портрете Левицкого она кажется совсем юной, мечтательная красавица в пышных локонах искусной прически, напоминающей дело рук непревзойденного куафера королевы Марии-Антуанетты Боларда, в свечении шелковых тканей, лент, кружев, легко скользнувшего с плеча платья — полонеза. И она совсем не безразлична к прихотям быстро меняющейся моды, которая начинает требовать интимности и простоты и будет подражать фривольности утренних туалетов даже в официальных парадных костюмах. Просто художник сумел уловить, как нарочитость моды подчеркивает естественность манер девушки. Очарование Дьяковой не в правильности черт, не в классической красоте, которой у нее нет. Оно в той внутренней мягкости и теплоте, которыми светится ее облик, несмотря на отрешенный, словно отсутствующий взгляд. Сегюр прав, продолжая свой сонет:
В ней больше очарования,
Чем смогла передать кисть,
И в сердце больше добродетели,
Чем красоты в лице.
Только Левицкий гораздо сложнее видит свою модель. Что в этом отведенном в сторону взгляде Дьяковой: тень первых разочарований, начинающейся усталости или, может быть, домашнего разлада? Можно не выйти замуж в пятнадцать лет, хотя так поступали тогда многие, но это давно пора сделать в двадцать три. А Марья Алексеевна все еще на попечении родителей, далеких от ее художественных увлечений, откровенно враждебных к ним. В полотне Левицкого — целое повествование о человеке, его состоянии, душевном мире, сложном, неустойчивом, полном противоречий и воплощенном в симфонии едва уловимых в своей сложности и богатстве цветовых отношений. Знал ли художник о зарождающемся чувстве, которое свяжет Дьякову с его молодым другом, или это чувство еще не успело родиться, но уже годом позже разыгрывается первый акт семейной драмы.
Закипает досада в душе обер-прокурора Синода, отца Машеньки — Алексея Афанасьевича. И дело не столько в родословной Дьяковых, заслуженных служилых дворян, идущих от полулегендарного Федора Дьякова, основавшего на рубеже XVII–XVIII веков города Енисейск и Мангазею, и не в происхождении матери Марьи Алексеевны — она из древнего рода князей Мышецких. Для родителей гораздо важнее свойство с Бакуниными, которое открывало двери во многие петербургские дома и даже к самому Семену Кирилловичу Нарышкину, где не редкой гостьей, по свойству, бывала сама императрица. И вот первый соискатель Машенькиной руки, которому, впрочем, она сама откажет, — безродный полунищий баснописец Хемницер. Зато с Львовым все сложнее. Машенька не скрывает зародившегося в ее душе ответного чувства, и родители спешат прибегнуть к самым суровым мерам. Львов не просто получает отказ — ему вообще отказывают от дома. Львову не разрешают бывать у Дьяковых, тем более переписываться с любимой.
Но вопреки всем запретам, Львов каждый день появляется перед окнами дьяковского дома, находит способ передавать Машеньке записочки, в том числе под видом книжек для чтения. В один из томиков „Календаря“ он вписывает своей рукой строки о ее родителях:
Нет, не дождаться вам конца,
Чтоб мы друг друга не любили,
Вы говорить нам запретили,
Но знать вы это позабыли,
Что наши говорят сердца.
Стихи так и были названы — „Завистникам нашего счастья“, и на них не могли не отозваться друзья.
Великий Капнист на правах официального жениха Сашеньки Дьяковой везет на бал невесту и ее сестру. Но по дороге карета заезжает в скромную церковку на краю Васильевского острова. Как в „Метели“ Пушкина, там все готово для венчания и ждет нетерпеливый Львов. Наскоро совершенный обряд, и молодые супруги разъезжаются по сторонам. Машенька с сестрой и Капнистом отправляются на бал, Львов — во дворец Безбородко, где будет продолжать жить на положении холостяка. Разлука продлится около четырех лет.
Слов нет, Машенька имела право уехать к супругу. Львов не думал ни о каком ее приданом, и ни о каких последствиях своего решительного шага. Зато обо всем заботилась Машенька. Впоследствии Львов признается в одном из своих писем: „Сколько труда и огорчений скрывать от людей под видом дружества и содержать в предосудительной тайне такую связь, которой обнародование разве бы только противу одной моды нас не извинило… Не достало бы, конечно, ни средств, ни терпения моего, если бы не был я подкреплен такою женщиною, которая верует в РЕЗОН, как во единого Бога“. Оказалось, романтическая музыкантша и поэтесса действительно выше всего ставила „резон“ — простой житейский смысл. И заботилась она не о себе — о своем „Львовиньке“, как будет всю жизнь называть мужа. Его творческие возможности, служебные успехи, доброе имя для нее важнее всего.
Львов переезжает в Петербург и записывается в военную службу в 1769 году. Он родился и первые восемнадцать лет жизни безвыездно провел в родных Черенчицах. Ни о каком сколько-нибудь серьезном образовании ему не приходилось говорить. По словам первого его биографа, он „явился в столицу в тогдашней славе дворянского сына, то есть лепетал несколько слов по-французски, по-русски писать почти не умел и тем только не дополнил славы сей, что, к счастью, не был богат и, следовательно, разными прихотями избалован“. Зато дальше все зависело от него самого, и Львов может сполна удовлетворить свою неистребимую жажду знаний.
В доме родственников — Соймоновых, которые отныне будут ему покровительствовать, определяются первые увлечения Львова, которым он не изменит до конца жизни. Соймоновы известны своими научными занятиями. Отец тогдашних владельцев петербургского дома, Федор Иванович — талантливый навигатор, картограф и гидрограф времен Петра I, поплатившийся жизнью при императрице Анне Иоанновне за свои политические убеждения. О роковом повороте его судьбы рассказывает в семейных записках дочь Львовых Елизавета Николаевна:
«При императрице Анне Иоанновне Бирон был всемогущ, и все его боялись. Федор Иванович Соймонов был тогда уже александровский кавалер, ему приходят сказать в одно утро:
«Не езди в Сенат, потому что там читать будут дело Бирона, и ты пойдешь против.
— Поеду, — отвечал Федор Иванович, — и буду говорить против: дело беззаконное.
— Тебя сошлют в Сибирь.
— И там люди живут, — отвечал Соймонов.
Поехал в Сенат, говорил против Бирона и от этого четыре раза был ударен кнутом на площади, лишен всего и сослан в Сибирь».
Судьбой Львова занялись сыновья Федора Ивановича. Из них старший был специалистом горного дела и служил в Берг-коллегии, младший — специалистом по строительному делу и занимался архитектурой. В истории русской техники останутся открытия и усовершенствования Львова по горнорудному делу, тем более его работы по технологии строительства. Но все это в будущем. Пока Львова ждет гвардейский Измайловский полк и полковая школа — род удивительного учебного заведения, где начинали едва ли не с азов грамотности, а через несколько лет выпускали блестяще образованных разносторонних специалистов.