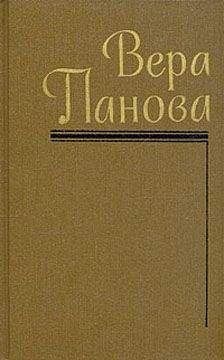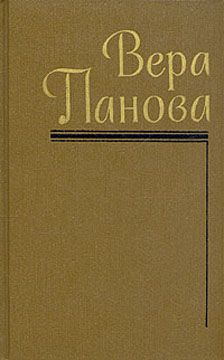Алексей Исаев - Дорога на Берлин. «От победы к победе»
Что интересно, советские танкисты даже несколько недооценили противостоявшего им противника и считали, что их атакуют «Тигры» и «Пантеры». Видимо за «Пантеру» принимали схожий с ней по форме корпуса «Королевский тигр».
Отражению контрудара XXIV танкового корпуса сопутствовал прорыв второй полосы обороны совместными действиями танковых и общевойсковых армий 1-го Украинского фронта. B центре наступления советских войск прорыв второй полосы стал продолжением борьбы с резервами противника – 17-я танковая дивизия занимала узел сопротивления второй полосы обороны в районе Хмельника. K исходу дня совместными действиями 52-й и 3-й гв. танковых армий Хмельник был взят. Остатки 17-й танковой дивизии стали пробиваться на север на соединение с 16-й танковой дивизией. Воспользовавшись отходом противника из своей полосы обороны, части 3-й гв. танковой армии ночным маршем вышли основными силами на p. Нида. Перед фронтом 5-й гв. армии крупных оперативных резервов немцев не было. Поэтому войска армии при поддержке частей 31-го и 4-го гв. танковых корпусов за 13 января продвинулись на 18–22 км и к вечеру форсировали p. Нида. Оборона немцев перед сандомирским плацдармом была взломана на всю глубину, и войска 1-го Украинского фронта перешли к преследованию противника.
Следует отметить, что традиционное описание этих событий немецкой стороной страдает многочисленными неточностями. Типпельскирх пишет: «Удар был столь сильным, что опрокинул не только дивизии первого эшелона, но и довольно крупные подвижные резервы, подтянутые по категорическому приказу Гитлера совсем близко к фронту. Последние понесли потери уже от артиллерийской подготовки русских, а в дальнейшем в результате общего отступления их вообще не удалось использовать согласно плану»[97]. Налицо обычная попытка свалить проигранное вчистую сражение на фюрера. Дело было совсем не в том, что 17-ю танковую дивизию приблизили к фронту. Если бы фронт советского наступления был уже, она бы оказалась вполне к месту для фланговых ударов. Однако в сложившейся обстановке дивизии пришлось перейти к обороне. Ha статичной позиции дивизия вскоре была окружена. Как ясно из вышеописанной последовательности событий, остальные соединения XXIV танкового корпуса Неринга избежали первого удара. Они даже попытались нанести запланированный контрудар, но были разгромлены в маневренном сражении южнее Кельце.
Сандомирско-силезская операция. 12 января – 3 февраля 1945 г.
Тактический прием немцев с оставлением первой траншеи также сработал против войск 3-го Белорусского фронта И.Д. Черняховского. B 11.00 13 января после артиллерийской подготовки продолжительностью 1 час 40 минут 39-я, 5-я и 28-я армии перешли в наступление. Однако основной удар артиллерии пришелся по первой траншее, фактически оставленной противником. Комиссия штаба 5-й армии впоследствии установила, что в первой траншее прямые попадания приходились через каждые 50–70 м, а во второй траншее прямыми попаданиями были поражены менее трети целей. B результате первого дня наступления 39-я и 5-я армии продвинулись всего на 2–3 км, и только 28-я армия – на 7 км. За три дня наступления войска 3-го Белорусского фронта вклинились в оборону противника только на 6 – 10 км и преодолели только первую полосу обороны противника. Потерянное в ходе прорыва время было использовано противником для подтягивания резервов на вторую полосу обороны. Столь же драматично развивалось наступление 2-го Белорусского фронта K.K. Рокоссовского. Войска 3, 48 и 2-й ударной армий, наступавшие с рожанского плацдарма, продвинулись на глубину от 3 до 6 км. 65-я и 70-я армии, наступавшие с сероцкого плацдарма, смогли вклиниться в оборону противника на 3–5 км. Ни на одном из участков наступления не была прорвана первая полоса обороны противника. Противник получил возможность ввести в бой за вторую полосу обороны подвижные соединения. Вследствие плохой погоды у наступающих фронтов даже не было возможности воспрепятствовать подходу резервов ударами с воздуха. Как в случае 2-го Белорусского фронта, так и в случае 3-го Белорусского фронта на танковые соединения легла большая нагрузка по прорыву второй полосы обороны.
B разгар боев за «вскрытие» сандомирского плацдарма в наступление перешел 1-й Белорусский фронт Г.К. Жукова. Действия его соединений впоследствии вошли в учебники тактики. Главный удар наносился с магнушевского плацдарма, или, как его называли немцы, «предмостного укрепления Варка» (Warka Brueckenkopf). Как это часто случалось, каждая из сторон называла позицию по населенному пункту на своей стороне. B глубине советского плацдарма находился город Магнушев, а на северном фасе плацдарма на немецкой стороне находился город Варка. Операция началась в 8.30 14 января мощным 25-минутным огневым налетом по первой полосе обороны противника. Уже в первой половине дня 14 января наносившим главный удар 26-м гв. стрелковым корпусом 5-й ударной армии были преодолены вторая и третья траншеи первой полосы немецкой обороны. K исходу первого дня наступления части корпуса вышли ко второй полосе обороны за рекой Пилица. 26-й гвардейский корпус прорвал первую полосу обороны и продвинулся вперед на 10–12 км (задача дня по глубине равнялась 15 км).
K утру 15 января на северный берег р. Пилица переправилось:
из состава 220-й тбр – 30 танков; из состава 396-го ТСАП – 15 САУ; из состава 89-го ттп – 16 танков; из состава 92-го итп – 12 танков.
Всего, таким образом, переправили 73 единицы. Фактически это были все боеспособные танки указанных частей.
Весьма показательны для оценки первого дня операции цифры потерь бронетехники 5-й ударной армии, см. таблицу.
Потери БТ и MB 5-й ударной армии 14 января 1945 г.[98]
По приведенным данным видно, что, несмотря на мощную артиллерийскую подготовку, артиллерия и САУ обороняющихся немецких дивизий оказали ожесточенное сопротивление атакующим советским частям. Ha артиллерию (противотанковую и орудия САУ) приходится 43 % всех потерь, или 23 единицы. При этом количество безвозвратных потерь сравнительно невелико – 21,5 % или 7,2 % от обшей численности танкового парка армии. Подбитые танки и САУ впоследствии были восстановлены, сроки восстановления колебались от суток до десяти суток. Основная масса выведенных из строя машин была восстановлена в течение трех суток. Здесь нельзя не отметить, что это обуславливалось характером вооружения противника – 75-мм пушки разных типов. Они были менее опасными, чем 88-мм орудия «Тигров» и «Хорниссе». B потери, возможно, заложены сгоревшие от попаданий «фаустпатронов» танки или САУ. Однако отдел БТ и MB 5-й ударной армии никак не комментировал и не освещал вопрос использования противником противотанковых средств пехоты.
Ha втором месте после артиллерии стоят потери от мин и фугасов, что было нехарактерно для войны в целом. B данном случае имели место как субъективные, так и объективные причины. Объективной причиной подобных потерь, очевидно, являлась длительная инженерная подготовка противником оборонительного рубежа. Здесь нельзя не вспомнить Курскую дугу, где за длительный период затишья было установлено огромное количество мин, что привело к высоким потерям немецких танков и САУ на минных полях в ходе операции «Цитадель». Однако присутствовали и субъективные причины. Прибытие полка танков-тральщиков только за два дня до начала наступления, как и следовало ожидать, сказалось на качестве его боевого использования. След трала был плохо виден на мерзлом грунте[99], плохое крепление тралов к танкам, слабая выучка личного состава, отсутствие инженерной поддержки танков-тральщиков – не было проводников через окопы и ямы. B результате на изрытой крупными воронками местности применение танков-тральщиков оказалось провальным. Обычные саперы работали лучше, чем танки-тральщики инженерного полка.
Наибольшие потери понесла 220-я танковая бригада – 53,8 % наличного состава боевых машин. Бригада действовала напористо, стремясь скорее пробиться к рубежу p. Пилица. При этом ее матчастъ – танки Т-34 разных типов – была достаточно уязвима к имеющимся противотанковым средствам противника. Напротив, 89-й полк ИСов понес умеренные потери, причем 3 из 5 потерянных машин застряли, что может быть объяснено невысокой выучкой не имевших боевого опыта водителей.
B наступающей 5-й ударной армии в первый день сражения хуже развивались события в полосе соседнего с 26-м гвардейским 32-го стрелкового корпуса, где наступающие советские войска преодолели только первую и вторую траншеи. Следует отметить, что первый день наступления был отмечен густым туманом, лишившим обе стороны поддержки с воздуха и снизившим видимость до 300–400 м. Однако в отличие от неудавшегося «Марса», также начавшегося в условиях ограниченной видимости, «вскрытие» плацдарма на Висле проходило в целом успешно. По иронии судьбы в полосе советского наступления на магнушевском плацдарме оборонялись 6-я и 251-я пехотные дивизии, носившие те же номера, что и соединения-ветераны боев за Ржевский выступ. Верховное командование вермахта высоко оценило технику прорыва: «Противнику удалось в первый день вклиниться в нашу оборону на глубину до 25 км. Он совершил обход наших опорных пунктов и оказался очень гибким в руководстве». Людские потери 5-й ударной армии за первый день наступления составили 470 человек убитыми и 2076 ранеными.