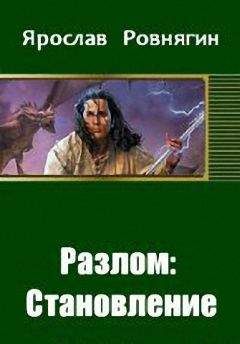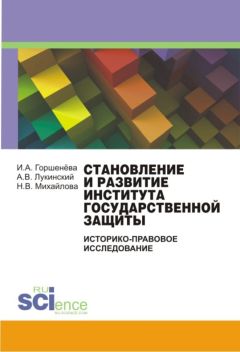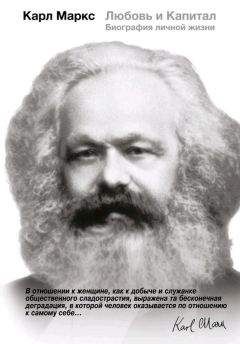Ярослав Шимов - Меч Христов. Карл I Анжуйский и становление Запада
Роль третья: воин-гвельф
Европа XIII века — это прежде всего Европа христианская. В эту эпоху «увеличивается число сословий, общество становится более сложным, меняется характер религии, которая во все большей мере принимает земной мир, перенося [религиозные] ценности с неба на землю, причем средневековый человек не перестает быть глубоко верующим и озабоченным спасением своей души…»{12}. Эта комбинация земного и небесного имела несколько весьма значительных политических последствий.
XIII век открылся понтификатом Иннокентия II (1198–1216), наиболее выдающегося последователя теократического курса, начертанного в конце XI века другим знаменитым папой — Григорием VII. Иннокентий, который считал себя не только наместником Христа, но и главой христианского мира, превратил иерархию римско-католической церкви в стройную пирамиду, увенчанную им самим — всесильным понтификом. Эта церковь уже не зависела от светской власти, достигнув тем самым цели, к которой безуспешно стремился в свое время папа Григорий. «Возвышаясь над грешным миром, церковь стала своеобразным государством, в котором епископы играли роль послушных служащих, губернаторов провинций и послов своего папы… Лишение светской власти прав патронажа над церковью, которыми она ранее пользовалась, стало окончательным и было закреплено папскими легатами, которые в качестве уполномоченных папы стояли выше, чем даже архиепископы.., светская же власть была не в состоянии даже протестовать против положения, в котором она оказалась, лишенная всех прав надзора за церковью»{13}.
Усиление духовного доминирования и рост политического господства церкви были при Иннокентии III тесно связаны между собой. Первое нашло свое выражение в гонениях на последователей ряда ересей (прежде всего вальденской[9] и альбигойской[10]), главным образом на юге Франции, в Лангедоке, где эти ереси получили наибольшее распространение. Крестовый поход против альбигойцев (1209–1229), организованный церковью, привлек под свои знамена многих крупных феодалов и отдельных государей. Но в результате многочисленных перипетий, подробности которых здесь нет возможности описывать, главным победителем оказалась даже не церковь, а французская монархия, которой в конечном итоге достались земли графов Тулузских, обвиненных в поддержке еретиков. Отец нашего героя, Людовик VIII, был одним из руководителей этого крестового похода на его поздней стадии.
Борьба с еретиками показала, что политика церкви по отношению к светским властителям не остается неизменной. Прежде всего, изменилась сама суть крестоносного движения. Изначально, в конце XI — начале XII века, эти походы были главным образом духовными предприятиями, направленными на борьбу с иноверцами и отвоевание главной христианской святыни — Гроба Господня. Однако позднее папство превратило крестовые походы в инструменты своей политики уже в пределах самой Европы. При этом если борьба с катарами и вальденсами, при всей ее непомерной жестокости, еще могла быть оценена в понятиях того времени как духовная миссия, направленная на объединение западного христианства на основах «единственно правого» католического вероучения, то другие папские предприятия уже никак не вписывались в эти рамки.
Речь не только о скандальном Четвертом крестовом походе (1202–1204), завершившемся взятием и разгромом столицы восточного христианства — Константинополя. (Это деяние Иннокентий III решительно осудил, хотя западному миру оно принесло ощутимые материальные выгоды.) Были и более мелкие операции вроде похода против регента Сицилийского королевства Маркварда из Анвайлера (1198–1202), которого папа отлучил от церкви, а участникам военных действий против него предоставил привилегии, близкие к тем, которыми пользовались участники «настоящих» крестовых походов. И если при папе Иннокентии с его колоссальным духовным и политическим влиянием подобное измельчание крестоносной идеи еще не слишком сильно било в глаза, то при его преемниках этот процесс стал очевиден. Укреплению авторитета церкви он явно не способствовал. «Новая концепция церковного врага была тем опаснее, что давала простор для весьма гибких и растяжимых толкований и незаметными путями сплеталась со сложной домашней политикой, с личной и политической интригой…»{14} Главной такой интригой в XIII веке было обострившееся с новой, невиданной со времен Григория VII силой противостояние папской и императорской власти.
О фигуре Фридриха II Гогенштауфена, короля Сицилии (1196–1250) и императора Священной Римской империи (1220–1250), нам придется еще немало говорить. Здесь лишь отметим, что этот государь, еще при жизни заслуживший прозвище Stupor mundi[11], стал главным двигателем борьбы с теократическими притязаниями папства и, в свою очередь, олицетворением альтернативного проекта универсальной монархии, опирающейся на традиции античного Рима и христианских империй Константина и Карла Великого. Изматывающая борьба, которую несколько десятилетий вели сменявшие друг друга папы и император, при жизни Фридриха не принесла решающей победы ни одной из сторон. Эта борьба имела сразу несколько измерений — политическое, социальное и даже религиозно-философское. Главным же ее итогом явилось взаимное ослабление императорской власти и папства. Империя после смерти Фридриха II быстро пришла в такой упадок, от которого ей уже не суждено было оправиться[12]. Папство же оказалось в положении, при котором оно было вынуждено все более полагаться на своих союзников из числа европейских монархов (прежде всего французского короля) и итальянских городских республик.
Конфликт гвельфов и гибеллинов[13], сторонников папы и императора, на несколько веков стал характерной чертой европейской, прежде всего итальянской, политики. Этот конфликт использовали в своих интересах различные политические силы и лидеры. Одним из них стал в 1265 году Карл Анжуйский, откликнувшийся на призыв папы, который стремился положить конец власти последних Гогенштауфенов на юге Италии. В конечном итоге борьба пап и императоров, вступившая в XIII веке в завершающую стадию, привела к краху обоих проектов, теократического и светского, стремившихся объединить под своей властью весь христианский мир. В выигрыше оказались западноевропейские королевства, оставшиеся в той или иной степени в стороне от схватки преемников святого Петра с наследниками Карла Великого. Эти королевства, в первую очередь Франция, получили возможность укрепить свои позиции — до такой степени, что послы Людовика Святого в 1240 году дерзко заявили императору Фридриху: «Мы воистину полагаем, что наш государь король Франции, который как отпрыск королевской крови поставлен править Французским королевством, превыше всех императоров, которые выдвигаются лишь благодаря произвольному выбору»{15}.
Согласно доктрине Иннокентия III, «власть королей над церковью должна быть упразднена, свободу же церкви [монархам] следует защищать неустанно. Такая защита и есть признак доброго государя»{16}. Исходя из этой доктрины, папы и раньше стремились превратить королей в своих ленников, пусть даже формально, — и к XIII веку им удалось сделать это в отношении Швеции, Дании, Венгрии и Сицилийского королевства. Папа Иннокентий расширил список, добавив к нему Англию, Португалию, Арагон, Польшу и на какое-то время даже Сербию. Теоретически папы и вовсе считали себя сюзеренами целого Запада, пользуясь в качестве обоснования своих претензий «Константиновым даром». Этот документ, якобы подписанный Константином Великим, первым христианином на императорском троне, передавал большую часть земель тогдашней Римской империи под высшую власть папы как Христова наместника и преемника святого Петра. «Константинов дар» был фальшивкой, изготовленной, скорее всего, в VIII веке, но до его разоблачения во времена Карла Анжуйского оставалось еще двести лет.
С Францией, которая пользовалась статусом «любимой дочери церкви», ситуация, однако, была неоднозначной. С одной стороны, Капетинги стремились поддерживать с папством добрые отношения, с другой — бдительно следили за сохранением собственных прерогатив. Они удерживали достаточно сильное влияние на церковные дела в своем королевстве и одновременно не давали Риму втянуть Францию в прямой конфликт с империей. Дед Людовика IX и Карла Анжуйского, Филипп II Август, помогая Иннокентию III в истреблении еретиков, тем не менее, пресек попытки папы выступить в роли арбитра в его конфликте с английским королем Иоанном Безземельным. Папе «нет никакого дела до того, что происходит между королями»,{17} заявил посланцам Иннокентия III король Филипп. Тот самый Филипп, который при других обстоятельствах провозгласил, что «скорее предпочтет терпеть урон, чем затевать скандал со Святой Церковью»{18}. В рамках, обозначенных двумя этими высказываниями, и колебалась церковная политика монархии Капетингов — по крайней мере до Филиппа IV, внука Людовика Святого, вступившего на рубеже XIII–XIV веков в открытый конфликт с папством.