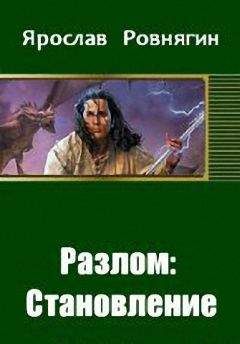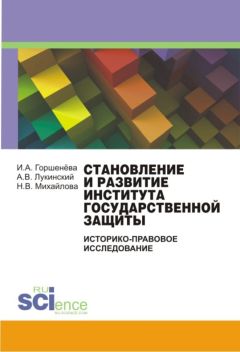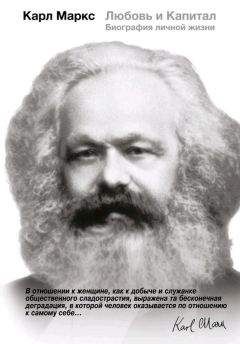Ярослав Шимов - Меч Христов. Карл I Анжуйский и становление Запада
Так, преобладающим правилом наследования становится примогенитура — наследование по праву первородства, когда старшему потомку отходит все наследство или его львиная доля. В результате в католической Европе возникает довольно многочисленная группа младших сыновей рыцарских семей, которые в погоне за славой и богатством могли рассчитывать лишь на собственные способности и удачу. Это явление распространяется до самого верха социальной иерархии — княжеских и королевских родов. В XIII веке мы видим целый ряд младших европейских принцев, стремящихся схватить свою жар-птицу за хвост, коль скоро по наследству им перепало немногое[7].
Отчасти к числу подобных рыцарей-авантюристов принадлежал и Карл Анжуйский. Как мы увидим, во владение графствами, доставшимися ему в наследство от отца, наш принц вступил лишь волею случая (благодаря преждевременной смерти двух старших братьев). Позднее Карл участвовал в междоусобице во Фландрии, где борьбу за наследство вели сыновья графини Маргариты от двух ее браков. Участвовал в расчете на то, что окажется на стороне победителей и по итогам распри будет вознагражден солидным ленным владением. Но только брак с Беатрисой Прованской вознес Карла на более высокую ступень в иерархии владетельных сеньоров: отныне он стал — jure uxoris[8], но в этом не было ничего необычного, — настоящим государем. А поскольку в Провансе молодому графу противостояла пестрая компания противников — от собственной тещи, Беатрисы Савойской, до ряда могущественных вассалов и городских коммун, то Карл быстро приобрел уникальный политический опыт. К тридцати годам он успел познать тогдашнюю политику с разных сторон. Последующая сицилийская эпопея и почти 20-летнее правление на юге Италии значительно расширили этот опыт.
Таким образом, Карл Анжуйский был одним из тех деятелей, чью судьбу определили силовые линии европейской политики XIII века. Они соединяли основные социально-политические полюса того общества, отношения между которыми складывались крайне непросто. Это была усилившаяся монархическая власть; крупные феодалы, чьи интересы заставляли их вечно колебаться между верностью монархам и противостоянием им; мелкое и среднее рыцарство, все громче заявлявшее о своих правах в качестве привилегированного сословия; городские коммуны с их быстро развивавшимся торговым сословием, правовой автономией и стремлением к политической самостоятельности; и наконец, римско-католическая церковь, чья политическая роль пережила в XIII веке существенную трансформацию. Роль государя оказалась главной жизненной ролью Карла Анжуйского, но к ней он пришел не сразу. Превращение младшего сына аристократического рода, с характерной для этой группы психологией рыцарей-авантюристов, в правителя крупной державы стало одной из главных коллизий его жизни.
Надо заметить, что Карлу при этом повезло: его жизнь пришлась на завершающие десятилетия эпохи, когда формировалась национальная и государственно-политическая карта Европы, точнее, ее основные детерминанты, во многом сохранившиеся до наших времен. «Франция», «Италия», «Германия», «Испания» — эти понятия, безусловно, были известны людям Средневековья, но, конечно, их содержание было совсем иным, почти лишенным тех национально-культурных коннотаций, которыми оно наполнено для нас сегодня. Более того, окраины Европы — Пиренейский полуостров, значительная часть Средиземноморья, северо-восток, прилегающий к побережью Балтийского моря, отчасти также Британия и Ирландия — были пограничными зонами, где пересекались и сталкивались различные культуры, религии, правовые и политические традиции. Относительная примитивность и неустойчивость государственных механизмов вели к тому, что именно там зачастую образовывались «вакантные места», сулившие массу возможностей смелым и предприимчивым завоевателям.
Дело осложнялось (или, наоборот, облегчалось — в зависимости от того, какие обстоятельства рассматривать и с чьей точки зрения) неоднозначностью представлений об источниках легитимности власти государя. Путаница в этих вопросах была во многом следствием растянувшейся на два столетия (со второй половины XI до середины XIII века) борьбы между двумя ведущими политическими авторитетами христианского Запада — папством и империей. Карл Анжуйский, выступив по наущению папы в поход за сицилийской короной, фактически завершил традицию королей, завоевавших высшую власть силой оружия. После него подобных случаев в европейской истории Средних веков и раннего Нового времени больше не будет. Победители междоусобиц в рамках одной страны и одной династии (вроде целой череды английских королей XV века, от Генриха IV до Генриха VII) не в счет, поскольку и способ их прихода к власти, и его социальный контекст, и идеологическое обоснование были совсем иными,
В качестве правителя Карл проявил себя как человек, который, похоже, интуитивно чувствовал, куда дует ветер истории. В доставшемся ему Сицилийском королевстве он продолжал традиции предшественников — нормандских правителей и династии Гогенштауфенов, которые стремились к централизации власти и созданию развитого по тем временам бюрократического механизма, рычаги управления которым держит в руках государь, являющийся одновременно первым феодалом в своем королевстве. В своих французских владениях — Анжу и Провансе, где социальная структура была более сложной, Карл по мере сил лавировал между различными политическими силами и социальными группами, стараясь, тем не менее, создавать такие ситуации, когда решающее слово в политических вопросах оставалось за ним. Он был человеком власти и стремился к концентрации власти в своих руках. В этом был залог его успехов, но одновременно и причина тяжелого поражения, которое он потерпел на закате жизни в результате восстания, которое вошло в историю как «Сицилийская вечерня». Оно лишило Карла островной части его владений и надолго изменило расстановку сил на юге и юго-востоке Европы.
Карл Анжуйский никогда не стеснялся в средствах для достижения своих целей. Как мы увидим, он умел быть и щедрым, и милостивым, в том числе к поверженным врагам, но в целом, если судить по сохранившимся фрагментам переписки и распоряжений короля, доминирующими чертами Карла как политика были строгость и непреклонность. Возможно, ему во многом не повезло. Свое королевство младший принц из дома Капетингов не унаследовал, а завоевал; как напишет несколько столетий спустя один хитроумный флорентинец, «новый правитель всегда хуже старого… Завоеватель угнетает новых подданных, облагает их различными повинностями и обременяет их постоями войск, чего невозможно избежать во время завоевания. И так он наживает себе врагов среди тех, кого обидел, и лишается дружбы тех, кто помогал ему в завоевании, так как не в состоянии наградить их в той мере, которая соответствовала бы их ожиданиям…»{11}. Неизвестно, думал ли Макиавелли при написании этих строк о Карле Анжуйском, память о котором в Италии в те времена была еще относительно свежа, но фактически его описание можно назвать краткой психологической историей «Сицилийской вечерни» 1282 года.
Карла Анжуйского, кстати, несмотря на весь его прагматизм и нередкую неразборчивость в средствах, нельзя назвать «макиавеллистом до Макиавелли». Для этого он был еще слишком средневековым деятелем, одновременно человеком власти и человеком миссии. Бог для него еще не стал политико-идеологической условностью, как для многих князей ренессансной эпохи, давно утративших веру, а оставался вполне реальной силой, вершащей судьбы людей и царств. При этом Карл принадлежал к тому типу политиков, которые не разграничивают земное и трансцендентное, когда дело касается их самих. Они отождествляют собственные политические цели и замысел Провидения, видя в самих себе орудие высших сил. И даже терпя поражение, они считают его испытанием, но не приговором. В этом смысле Карл удивительно современен, ведь и новейшая история знает немало политиков, принадлежащих к этому типу.
Роль третья: воин-гвельф
Европа XIII века — это прежде всего Европа христианская. В эту эпоху «увеличивается число сословий, общество становится более сложным, меняется характер религии, которая во все большей мере принимает земной мир, перенося [религиозные] ценности с неба на землю, причем средневековый человек не перестает быть глубоко верующим и озабоченным спасением своей души…»{12}. Эта комбинация земного и небесного имела несколько весьма значительных политических последствий.
XIII век открылся понтификатом Иннокентия II (1198–1216), наиболее выдающегося последователя теократического курса, начертанного в конце XI века другим знаменитым папой — Григорием VII. Иннокентий, который считал себя не только наместником Христа, но и главой христианского мира, превратил иерархию римско-католической церкви в стройную пирамиду, увенчанную им самим — всесильным понтификом. Эта церковь уже не зависела от светской власти, достигнув тем самым цели, к которой безуспешно стремился в свое время папа Григорий. «Возвышаясь над грешным миром, церковь стала своеобразным государством, в котором епископы играли роль послушных служащих, губернаторов провинций и послов своего папы… Лишение светской власти прав патронажа над церковью, которыми она ранее пользовалась, стало окончательным и было закреплено папскими легатами, которые в качестве уполномоченных папы стояли выше, чем даже архиепископы.., светская же власть была не в состоянии даже протестовать против положения, в котором она оказалась, лишенная всех прав надзора за церковью»{13}.