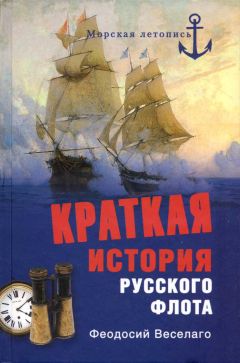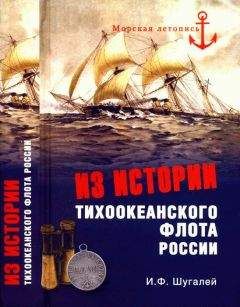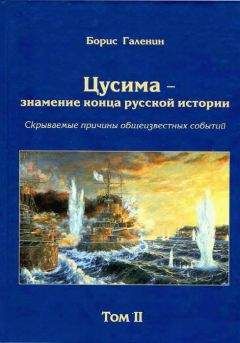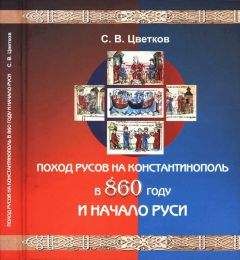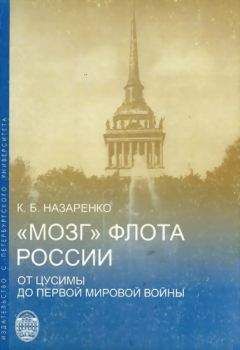В. Мавродин - Начало мореходства на Руси.
Указание на сжигание трупов «скифами» свидетельствует о том, что в осаде Константинополя в 626 г. принимали участие восточные славяне, даже точнее, восточные славяне из северной лесной полосы Восточной Европы, так как среди них безраздельно господствовал обряд трупосожжения, тогда как южные их соплеменники — тоже славяне, почти исключительно предавали своих покойников земле. [28]
К берегам Черного моря анты вышли очень давно. Потомки и преемники населения древнего Причерноморья славяне полностью восприняли стремление на юг, к морю и за море, от своих предков времен великого переселения народов и еще более далеких, когда они скрывались под широко известным названием скифов и уже были связаны с античным миром.
К их услугам были те же водные артерии — Днепр, Буг и Днестр, которые позже открыли путь в море русским людям далекого будущего, в то море, которое бороздили однодеревки Олега и Игоря в X в. подобно тому, как это делали их предки мореходы-анты, в то море, которое арабы называли «Русским».
Трудно переоценить значение рек в истории русского народа. «Река — великий фактор в истории».[29]
«Реки — божьи дороги» — говорили люди средневековья, подчеркивая, что эти мощные водные артерии не разъединяют, а объединяют людей. На берегах рек возникали и расцветали древние славянские города, реки издавна были бойкими «путями-дорогами» для русского человека, реки объединяли «словенеск язык на Руси». Так было и в стародавние времена, во времена актов.
«Неудивительно после этого, что русский человек особенно любовно относился к реке, как к своей кормилице и наставнице. Она не только снабжала его большую часть года рыбой, но в половодье оплодотворяла его поля, медлительного землероба или угрюмого лесовика она быстро превращала в ловкого и предприимчивого водоходца. Ко всему этому необходимо прибавить, что наши реки, имеющие, сравнительно с западноевропейскими, весьма малое падение и значительно более спокойные паводки, как бы созданы для направления населения обширной равнины к морю. Племена, сидящие на верховьях рек, обыкновенно, силою обстоятельств, вынуждаются к овладению и их устьями. Таким путем нередко возникает и мореходство. На первых порах люди, очутившись на берегу моря, приходят в ужас от созерцания грозной и таинственной стихии; затем понемногу осваиваются с нею, и вот речное судоходство переносится сначала на взморье, а после и в открытое море». [30]К этим взглядам Е. Аренса трудно не присоединиться.
Карл Маркс в своей работе, посвященной истории секретной дипломатии в XVIII веке, говоря о войнах Петра I за овладение устьями русских рек Дона, Днепра, Буга, Западной Двины и за побережья морей, подчеркивает, что эта борьба была естественной, определялась самой конфигурацией России, и в процессе этих войн, порвав с традиционной политикой московских государей, стремившихся к завоеванию суши, Петр I в соответствии со способностями и тенденциями «великой рус-ской расы» «завладел всем тем, что было абсолютно необходимо для естественного развития его страны».[31]
Реки, игравшие столь большую роль в Киевской Руси, в Московском государстве и в Российской империи как средство сообщения, как путь к морю, во времена антов имели не меньшее значение. И обитая от Среднего Днепра и «оли до моря», как много времени спустя их потомки — уличи и тиверцы, все время идя, волна за волной, на штурм твердынь Византийской империи и прорываясь через укрепления, возведенные вдоль «голубого Дуная», не теряя из виду вод Черного моря, анты не могли не прибегнуть к морским плаваниям, как к средству передвижения и нападения. Моря в период средневековья были такими же «божьими дорогами», как и реки.
И что это действительно было так, можно судить по тому, что Византия, располагавшая достаточным количеством умелых полководцев и искусных флотоводцев, ценя в антах их воинскую доблесть, их знание военного дела и навыки, приглашала антов к себе на службу и поручала им высокие должности не только в сухопутном войске, но и во флоте.
Наряду с актами Анангастом, командовавшим фракийскими войсками Византии в 469 г., Хвалибудом, начальствовавшим над всеми византийскими гарнизонами по Дунаю в 30-х годах VI в., Всегордом, занимавшим высокий пост в войске «ромеев», мы встречаем анта Доброгаста в качестве командующего византийской Черноморской эскадрой.
Такой пост мог быть предложен только знающему и опытному моряку, а это предполагает какие-то мореходные традиции у антов.
Нам известен, например, поход аптекой дружины в 300 человек в качестве союзников Византии и в составе византийского войска в Италию, в Луканию.
В этой войне анты сражались в гористых и трудных местах, но путь в Луканию они проделали по морю и, быть может, не на византийских кораблях, а на своих судах. Это первый известный нам из источников поход восточнославянских воинов «за море». [32]
Для восточных славян, точнее, для юго-западной ветви восточных славян — антов Днепр стал дорогой в море еще в очень давние времена.
Нельзя обойти молчанием одну особенность, которая обращает на себя внимание при рассмотрении славянских названий Днепровских порогов у Константина Багрянородного. Все эти славянские наименования: «Островунипраг», «Вульнипраг», «Ессупи», «Веручи», «Напрези», «Неясыть» вряд ли являются словами, характерными для восточнославянских языков IX–X вв., т. е. для речи русских людей — современников Константина Багрянородного. В них нет ни древневосточно-славянского полногласия (вместо слова «порог», свойственного восточнославянским языкам, мы имеем слово «праг», характерное для южных славян, в частности — болгар), ни смыслового соответствия («неясыть» у восточных славян не пеликан, а род совы).[33]
Нет никакого сомнения в том, что эти названия были даны Днепровским порогам не восточными славянами киевских времен, а их далекими предками антской поры, не дружинниками Олега и Игоря, а воинами Божа, Идара, Межамира, Доброгаста, той поры, когда антские поселения достигали нижнего течения Днепра и здесь, на юге, у низовьев Дуная, они соседили с южными славянами и, более того, эти последние сами были выходцами из лесов далекого севера, только ранее антов проникшими на юг, к Дунаю и за Дунай. Не случайно некоторые названия Днепровских порогов могут быть объяснены из языка южных славян — болгар. Мне кажется, что южная группа антских племен имела много общего в языке со своими соседями — южными славянами, в частности — с болгарами. Они вместе составили первую (и основную) волну славянских вторжений и переселений в пределы Восточной Римской империи. По-видимому, южная группа среднеднепровских антов (так же, как и юго-западная) не знала еще полногласия, хотя оно и являлось очень древней особенностью русских языков. Поэтому-то они называли Днепровские пороги «прагами» так же, как это сделали бы сами болгары, если бы они часто ездили по Днепру. А это исключено. Значит, таким образом, названия Днепровских порогов древнего происхождения и своим появлением они обязаны юго-западной ветви восточных славян — антам.
Но быть может информатором Константина Багрянородного был болгарин или грек, хорошо знавший болгарский язык, человек бывалый, неплохо представлявший себе и днепровский путь, и Константинополь, и поэтому сравнивавший порог Ессупи с циканистирием, а Крарийскую переправу с ипподромом?
Может быть, но кем бы он ни был, этот информатор византийского императора, так интересовавшегося далекой Русью, во всяком случае он передавал названия порогов так, как звучали они в произношении русских людей юга, в южнорусских диалектах.
Незнающее полногласия и поэтому напоминающее южнославянское, произношение слова «праг» сочеталось с нехарактерным для южнославянских языков, в частности, для болгарского, и в то же самое время с характерным уже с древнейших времен для юга Руси фрикативным «г» («npah», «прах»).
Следовательно, славянские названия Днепровских порогов не конкретно болгарские, а древне-южно-восточнославянские, т. е. антские, тех времен, когда зародившееся на севере восточнославянское полногласие не было еще характерным и для южной, среднеднепровской группы восточных славян.
Прийдя к такому выводу, мы должны сделать и еще одно заключение, а именно о древности днепровского водного пути, по которому плыли в Черное море однодеревки антов. Если даже в X в. в названиях днепровских порогов в изложении византийского императора звучала еще речь антов (как звучала речь киевских русских в названиях днепровских порогов во времена Сулимы и Сагайдачного), то, следовательно, некогда этот путь был известным и оживленным, а по правому берегу его, «оли до моря», обитали далекие потомки тех, кто во времена Доброгаста плавал по Днепру в Черное море, преодолевая бурные и опасные «праги».