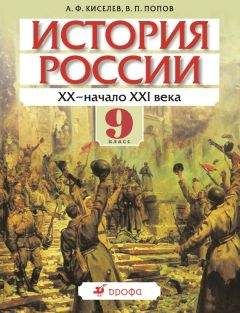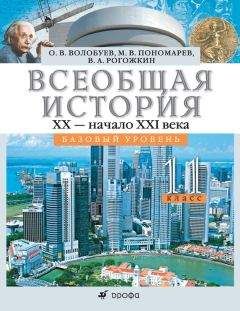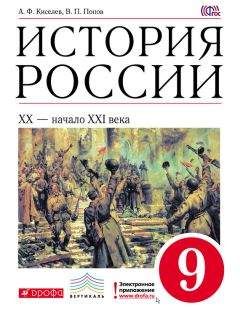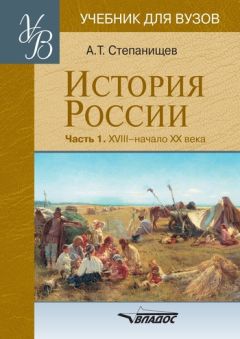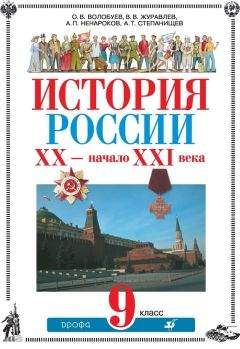Коллектив авторов - От царства к империи. Россия в системах международных отношений. Вторая половина XVI – начало XX века
Вторым главным противником Русского государства являлась Швеция, хотя Москва не считала, как известно, ее равноценным дипломатическим партнером. Состояния войны формально не было, исходя из условий «Дерптского договора о перемирии в Лифляндии» 1564 г., однако мирные отношения после прихода к власти в сентябре 1568 г. короля Юхана III отсутствовали. Союзный договор, заключенный в феврале 1567 г. послами свергнутого короля Эрика XIV, был фактически дезавуирован Иваном Грозным. Шведская сторона в условиях войны с Данией в конце 60-х гг. была заинтересована в достижении мирного соглашения. Однако эти надежды не оправдались: посольство П. Юстена после унизительного приема в 1569–1570 гг. в Новгороде Великом и в Москве было сослано в Муром. Правительство Ивана Грозного, исходя из заниженной оценки военно-политического потенциала Швеции, на договорные отношения не шло, активно используя «протокольные препятствия».
Принципиальной особенностью русско-шведских договоров являлось их заключение новгородскими наместниками. Попытки шведской стороны изменить эту практику отвергались Москвой. В 1567 г. Иван Грозный согласился, чтобы впредь Шведская корона сносилась непосредственно с Москвой, но затем вернулся к прежнему порядку, причем в унизительной форме[16]. Подобное положение, при отсутствии соглашения о компромиссе в Ливонии ввиду разрыва февральского договора 1567 г. таило в себе серьезную угрозу Русскому государству, особенно после прекращения войны Швеции с Данией в 1570 г. Дания играла особую роль в планах правительства Ивана Грозного по закреплению завоеваний в Ливонии дипломатическим путем. Две стороны не находились в состояния войны, но их разделял конфликт связанный с отказом русской стороны выполнять условия Можайского договора 1562 г., по которому остров Эзель и некоторые владения в Ливонии переходили под власть Датской короны. Это было следствием конфликта в связи с ратификацией договора королем Фредериком II в Копенгагене[17]. К тому же Грозный в середине 60-х гг. взял курс на союз с шведским королем Эриком XIV, наиболее упорным противником Дании. Хотя к началу 70-х гг. отношения Русского государства со Швецией ухудшились, о каком либо урегулировании отношений с Данией речь не шла.
Дипломатические связи между сторонами ограничивались в 60–70-х гг. только контактами при проезде через датскую территорию русских дипломатических представителей ко двору австрийских Габсбургов. Позиция Дании в Ливонском конфликте не имела для правительства Ивана Грозного первостепенного значения. Напротив, датская сторона желала возобновить дипломатические связи, чтобы выяснить судьбу остатков своих ливонских владений находящихся в руках шведов. Они обязаны были по Штеттинскому миру 1570 г., завершившего датско-шведскую войну 1563–1570 гг. вернуть их Дании, но не намеревались этого делать. Король Фридерик II рассчитывал на помощь Ивана Грозного в этом вопросе в обмен на посредничество в урегулировании его конфликта со Швецией. Ситуация осложнялась конфликтом короля Фридерика II с его братом «ливонским королем» принцем Магнусом, вассалом Ивана Грозного из-за конфискованных у него Датской короной шлейзвиг-гольштейнских владений. Кроме того существовала проблема территориального разграничения на границе Русского государства с Норвегией, входившей тогда в состав Датской короны.
В июле 1575 г. в Старицу прибыл датский посол И. Эйзенберг. 7 июля после аудиенции у Ивана Грозного состоялись переговоры с комиссией думных чинов в составе А. Ф. Нагого и В. Щелкалова[18]. Посольство Эйзенберга завершилось провалом – все датские предложения были отвергнуты в лично произнесенной речи Ивана Грозного на отпускной аудиенции 15 июля. Он рассчитывал сам захватить те крепости Ливонии, на которые претендовала Дания, и дал понять послам, что после Штеттинского мира с Швецией не рассматривает Данию как дружественное государство и не намерен соблюдать условия Можайского договора.
Особое место во внешней политики Русского государства занимали отношения с Крымом, представлявшим перманентную угрозу для его южных областей и потенциальную угрозу самому историческому центру – Москве. Понятие «состояние войны» к русско-крымским отношениям не применимо, поскольку дипломатические связи между двумя государствами сохранялись и при регулярных крымских нападениях на московские «украйны» и при крупномасштабных походах крымских ханов. Практика заключения межгосударственных договоров между Крымом и Русским государством начинает формироваться в конце XV в. Тогда складываются два вида договорных актов – договоры как таковые («докончания») и предварительные присяги крымских послов в Москве («шертные записи»). Как правило, ни один из русско-крымских договоров в XVI в. не проходил «окончательную ратификацию». Так в 1564 г. посольству А. Ф. Нагого удалось привести хана Девлет-Гирея I к шерти[19] на русско-крымском «докончании» (2 января 1564 г.), закрепленным крестоцелованием Ивана Грозного (5 марта 1564 г.). Договор (русский противень) содержится в русской посольской документации по связям с Крымом и опубликован Ф. Лашковым[20]. Данный документ был затем отправлен в Крым для принесения «окончательной шерти» ханом, но этот вариант договора, был вновь в 1565 г. дезавуирован крымской стороной после отказа удовлетворить претензии на восстановление «мусульманских юртов». В 1567 г. Девлет-Гирей I пытался заставить московских послов признать новый крымский вариант договора, но встретил жесткий отказ А. Ф. Нагого и Ф. А. Писемского, после чего последовал открытый конфликт Москвы и Крыма. К 1570 г. вопрос о заключении русско-крымского соглашения был фактически снят.
Сложность восстановления существовавшей до первой четверти XVI в. системы договоров Русского государства с Крымским ханством объяснялось геополитическими факторами, осложнявшими русско-крымские отношения: проблема заключалась не в территориальном разграничении, но в исторических претензиях на возвращение «мусульманских юртов» Нижнего и Среднего Поволжья (в отношении Астрахани они были обоснованными, в отношении Казани – во многом декларативными). Кроме того существовала проблема военно-политического присутствия Москвы на Кавказе в первую очередь вопрос о судьбе «городка на Тереке», что затрагивало интересы Османской Порты.
Обозначившееся к 70-м гг. военно-политическое присутствие Русского государства на Кавказе создавало перспективу установления союзных отношений Москвы с государством Сефевидов – основным геополитическим противником Османской империи. Однако реальные шаги к заключению русско-персидского союзного договора стали предприниматься обеими сторонами только в 80-х гг. в контексте вынашиваемыми габсбургской дипломатией планами включения России в антиосманскую лигу, что в свою очередь должно было закрепляться договорными актами. Таким образом, Восточный вопрос постепенно становится вторым основополагающим геополитическим фактором системы международных договоров Русского государства наряду с Балтийским вопросом. Этот процесс шел на протяжении почти столетия и принял окончательные формы только к 60-м гг. XVII в.
Союзных договоров у Русского государства к началу 70-х гг. фактически не было. Попытки заключить долговременный русско-английский союз даже в случае его реализации, в силу геополитических причин не могли существенно облегчить Москве решение основных внешнеполитических задач.
Раздел Ливонского наследства
В геополитическом отношении в 70–80-х гг. практически все договорные акты Русского государства были связаны с попыткой решить Балтийский вопрос. Задача выхода к Балтике и разграничения территории бывшего Ливонского ордена была центральной во всех договорах заключаемых Русским государством с Речью Посполитой, Швецией Данией. А. И. Филюшкин предлагает рассматривать Балтийский вопрос как борьбу за доминирование на Балтике и Ливонский вопрос как соперничество передел бывших владений Ливонского ордена[21]. К 1570 г. вся территория Ливонии была фактически поделена на четыре зоны оккупации: русскую, польско-литовскую, шведскую и датскую. Все участники раздела Ливонии стремились закрепить за собой порты, контролирующие балтийскую торговлю. В то же время борьба за выход к Балтике Русского государства и Швеции помимо Ливонского вопроса затрагивала другие спорные территории.
Проблема раздела «Ливонского наследства» неразрывно связана с Литовским вопросом – осуществляющимся с 80-х гг. XV в. военно-политическим давлением Москвы на Великое княжество Литовское, и его ответных действий с целью захвата и отвоевания спорных территорий. Претензии Москвы были значительны – всю территорию Великого княжества московские государи считали «своей отчиной», а контрпретензии Вильно охватывали как минимум возврат «Северской земли» как максимум Смоленска, Новгорода и Пскова[22]. В отношениях со Швецией раздел «Ливонского наследства» был тесно связан с карельской проблемой. И только Датская корона в конфликте из-за Ливонии не имела к Москве территориальных претензий.