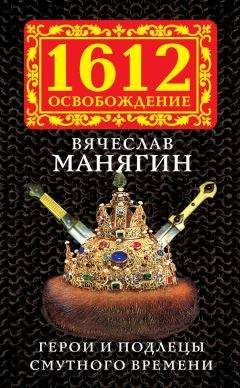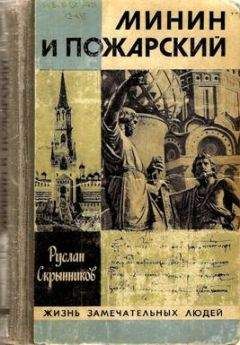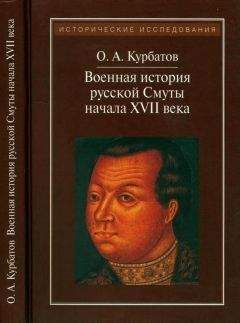Юрий Эскин - День народного единства: биография праздника
Начавшиеся бои приняли затяжной характер, а ополчению надо было решить множество задач, чтобы утвердиться в качестве признанной земской власти. Сразу же была исправлена крестоцеловальная запись, по которой стали присягать те, кто заново присоединялся к ополчению. Главным новшеством стало полное исключение службы королевичу Владиславу, от которого отказывались как от возможного русского самодержца. В новой «редакции» крестоцеловальной записи говорилось уже прямо: «королю и королевичу (выделенное словосочетание добавлено по сравнению с прежним текстом. – В. К.) полскому и литовскому креста не целовати, и не служити и не прямити ни в чем ни которыми делы». Из текста записи удалили упоминание о готовности подчиниться Владиславу, если король Сигизмунд III даст его на московское царство. Вместо этого добавилась страшная клятва с проклятиями тем, «кто не учнет по сей записи креста целовати, или крест целовав не учнет так делати, как в сей записи писано» [1, 319–320]. Пришедшие под Москву ратные люди стали себя называть «Великого Московского государьства бояре и воеводы». По городам в церковных службах «на многолетье» стали поминать «благоверныя князи и бояря» и обращаться под Москву с челобитными к «Великого Росийского Московского государьства и всей земли бояром». Повсюду рассылались призывы действовать «обще со всею землею» и в ополчение приглашались все новые ратники, вплоть до «крепостных» людей. Была назначена дата – 29 мая (по другим сведениям 25 мая), к которой приезд в ополчение становился уже не желателен, а обязателен для всех. В противном случае по земскому приговору предлагалось конфисковать поместья и отдать их «в роздачу».
Кроме военной задачи – блокирования польско-литовского гарнизона в Москве и принуждения его к сдаче, ополчение занялось созданием земского правительства.
Еще в момент организации ополчения на его нужды были направлены те доходы, которые собирались в городах, примкнувших к общему совету. На эти деньги закупались свинец и порох, выплачивалось жалованье служилым людям, готовился «корм».[8]
Все эти траты после прихода ополчения под Москву стали еще более насущными. Поэтому «бояре Московского государства» (в противовес боярам из Москвы) призывали привозить собранную казну в ополчение, а не отдавать ее сидевшим в столице полякам и литовцам. К призыву помочь общему делу присоединилась и братия Троице-Сергиева монастыря, «освятив» своими грамотами действия воевод земского ополчения. Трудно найти в публицистике Смутного времени более сильные слова, чем те, которые были сказаны в грамотах архимандрита Дионисия и келаря Авраамия Палицына, рассылавшихся из Троице-Сергиева монастыря «в Казань и во все понизовые городы,[9] и в Великий Новгород и Поморье; на Вологду и в Пермь Великую» [1, 329].
В этих отдаленных частях государства уже давно привыкли жить по собственному разумению, не особенно слушая сменявших друг друга воевод (в начале 1611 г. в Казани сбросили с башни бывшего любимца Ивана Грозного окольничего Богдана Бельского, а в Новгороде Великом убили воеводу Ивана Михайловича Салтыкова). Троицкие грамоты должны были подвигнуть население оказать помощь земскому движению, и они достигли своей цели.
Воеводы, собравшиеся под Москвой, все же не преуспели в создании полноценного земского союза. «Скудость» казны и «кормов» еще можно было как-то пережить, но оказалось, что никуда нельзя деться от междоусобной вражды. Когда города договаривались друг с другом идти в поход под Москву – это было одно, когда дворянские и казачьи отряды стали воевать вместе, то старое недоверие и обиды вернулись. Не было согласия прежде всего среди главных воевод ополчения. «Новый летописец» написал о начале раздоров с того момента, как только Первое ополчение оказалось у стен столицы: «Бысть у них под Москвою меж себя рознь великая, и делу ратному спорыни не бысть меж ими» [37, 112].
Выборы трех главных ратных воевод – князя Дмитрия Трубецкого, Ивана Заруцкого и Прокофия Ляпунова (именно в таком порядке) – тоже не внесли окончательного успокоения. Получалось, что бывшие тушинские бояре должны были подтверждать в подмосковных полках пожалования, сделанные служилым людям «за царя Васильево осадное сиденье», т. е. за оборону Москвы от сторонников «вора» (фактически их самих)! Прокофий Ляпунов, в свою очередь, стремился распоряжаться казаками, отучать их от тушинских повадок: выделять себе «приставства»[10] и распоряжаться по собственному усмотрению. Ничего хорошего от такого «правительства», отягощенного старыми счетами, ожидать не приходилось. Ко всему добавилось и то, что вожди ополчения стали думать больше о собственных интересах, чем об общем земском деле, ради которого они пришли под Москву.
В продолжении рассказа «Нового летописца» о делах Первого ополчения читаем: «В тех же начальниках бысть великая ненависть и гордость: друг пред другом чести и начальство получить желаста, ни един единого меньше быти не хотяше, всякому хотяшеся самому владети» [37, 112]. Чем же, кроме этого, поистине «враждотворного» местничества, запомнилась история ополчения автору летописи? Оказывается, безмерной гордостью Прокофия Ляпунова, который «не по своей мере вознесеся», и картинами ожидания приема у главного воеводы, внимания которого добивались многие «отецкие дети» и сами бояре: «Приходяху бо к нему на поклонение и стояху у него у избы многое время, никакова человека к себе не пущаше и многокоризными словесами многих поношаше, х казаком жесточь имеяше». «Другой начальник» Иван Заруцкий «поимал себе городы и волости многие», из-за чего «на того ж Заруцкого от земли от всей ненависть бяше». Лишь для одного князя Дмитрия Трубецкого не нашлось никаких бранных слов, но это, скорее, потому, что несмотря на то, что его имя писалось первым среди воевод ополчения, на самом деле, как пишет автор «Нового летописца», «Трубецкому же меж ими чести никакие от них не бе» [37, 112].
Необходимо все же подчеркнуть, что на летописцев этого времени влияло знание того, что случилось с каждым из воевод впоследствии. Упреки, адресованные, например, Прокофию Ляпунову, могут быть справедливы, но в них заметно стремление тех, кто участвовал в событиях с другой стороны, принизить значение действий Ляпунова под Москвой. А он действительно не особенно щадил чувства своих противников – бояр, сидевших в Москве.
Главным памятником земского дела под Москвой остался знаменитый Приговор Первого ополчения 30 июня 1611 г. Приговор был необходим ополченцам для того, чтобы остановить новое «нестроение» власти, связанное уже с авторитетом «всей земли».[11] «Новый летописец» упоминает, что принятию Приговора 30 июня 1611 г. предшествовала совместная челобитная «ратных людей» ополчения, объединившихся ради этого дворян и казаков: они просили, «чтоб бояре пожаловали быть под Москвою и были б в совете и ратных людей жаловали б по числу, по достоянию, а не через меру». Следовательно, собравшиеся в ополчении люди уже тогда нашли главную причину продолжения Смуты и раздоров, заключавшуюся в стремлении к новым чинам и наживе тех, кто получал такую возможность и не считался с устоявшимся местническим порядком, а иногда и со здравым смыслом. К сожалению, не были исключением из этого ряда и собравшиеся в ополчении «бояре» (здесь это слово упоминалось в широком смысле и подразумевало всех, кто облечен властью правительства и командования над ратными людьми). Бояр под Москвой просили, чтобы они «себе взяли вотчины и поместья по достоянию боярские; всякой бы начальник взял одного коего боярина». Вместо этого в ополчении началась безудержная раздача в частные руки фонда дворцовых и черносошных[12] земель, который ратные люди считали общим источником обеспечения «кормами» и жалованьем. Не удалось в Первом ополчении полностью избавиться и от вражды по старым поводам. «Ратные люди» били челом записать в будущем Приговоре: «Меж бы себя друг друга не упрекати, кои б в Москве и в Тушине».
Оставалась нерешенной проблема, что делать с крестьянами и холопами бояр, сидевших в Москве. Пока хозяева оставались в столице, их «крепостные» люди пришли воевать в ополчение под столицу в составе казачьих сотен и ждали выполнения обещания о воле. Считалось, как писал автор «Нового летописца», что из трех главных воевод ополчения двоим – «Трубецкому и Заруцкому, та их челобитная не люба бысть», и только «Прокофей же Ляпунов к их совету приста, повеле написати приговор» [37, 112].
Преамбула Приговора перечисляет все чины, участвовавшие в создании ополчения, и содержит наказ «боярам и воеводам», выбранным «всею землею». Воеводскому триумвирату были даны полномочия, «что им будучи в правительстве, земским и всяким ратным делам промышляти и расправа всякая меж всяких людей чинити вправду». Приговор 30 июня 1611 г. содержал, по подсчетам И. Е. Забелина, нашедшего один из двух известных списков документа, 24 статьи, посвященные прежде всего решению земельного вопроса в ополчении и организации его правительства. Не приходится сомневаться, что самой назревшей могла считаться первая статья Приговора: «А поместьям за бояры быти боярским, а взяти им себе поместья и вотчины боярския и окольничих и думных дворян, боярину боярское, а окольничему окольническое, примеряся к прежним большим бояром, как было при прежних российских прироженных государях» [42, 45]. Однако это был пока еще принцип, идеал земского устройства, который только предстояло достичь.