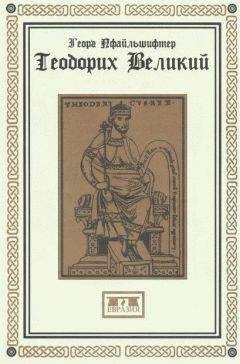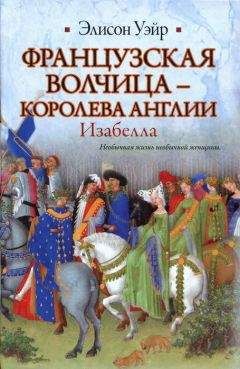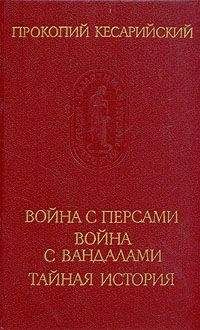Александр Чудинов - Французская революция: история и мифы
Подобные различия в освещении Революции одним и тем же автором в сочинениях, предназначенных разной аудитории, отнюдь не случайны. Другие либерально настроенные историки того времени в работах, рассчитанных на сколько-нибудь широкий общественный резонанс, также предпочитали обходить стороной "неудобные" факты, способные бросить тень на идеализированный образ Революции. О вполне сознательном выборе такого ракурса освещения истории прямо пишет в своих мемуарах мэтр "русской школы" Н.И. Кареев:
«По старой традиции, воспитавшейся на более ранних историях революции (Минье и Тьера, Мишле и Луи Блана), бывших её апологиями, прежде всего бросалась в глаза казовая, героическая, праздничная сторона революции, сделавшаяся поэтическою легендою. Клятва в Jeu de paume, взятие Бастилии, ночь 4 августа, праздник федерации, "Декларация прав", "Марсельеза" — какие это, в самом деле, красивые, эффектные вещи, способные настраивать на повышенный тон. Но все это именно поэтическая, праздничная, казовая сторона революции, у которой была своя проза, свои будни, своя изнанка, рядом с героизмом, своя патология»[25].
И хотя об этой "прозе" и "патологии" либеральные историки знали, писали они в основном всё же о "казовой" стороне. Это, впрочем, неудивительно: стремясь внести посильный вклад в общественно-политическое движение за обновление российской действительности, они в своих выступлениях, рассчитанных на широкую публику, трактовали Французскую революцию не столько как реальное событие прошлого, сколько как олицетворение либерального идеала, который, мечтали они, станет будущим России. Н.И. Кареев так вспоминал о своей политической деятельности в период первой русской революции: «На митингах и на предвыборных собраниях выступал очень часто в самых различных помещениях, обыкновенно с изложением основных принципов (конституционно-демократической — А.Ч.) партии, сводившихся мною главным образом к идеям "Декларации прав человека и гражданина" времен Французской революции…»[26]
И уж если даже профессиональные историки были не слишком беспристрастны в освещении французских событий конца XVIII в., то, тем более, этого трудно было ожидать от публицистов и популяризаторов, активно обращавшихся к данной теме во время и после революции 1905–1907 гг. Рассказ об истории Французской революции служил для них поводом выразить, прямо или косвенно, своё негативное отношение к российской действительности и призвать к её изменению революционным путем. Соответственно эти авторы пытались придать Франции Старого порядка сходство с российскими реалиями XIX — начала XX в. Так, монархию Бурбонов они упорно отождествляли с русским самодержавием (о чем речь подробно пойдет ниже, в третьей главе) и порой даже приписывали французским крестьянам веру в "короля-батюшку"[27]. Самих же крестьян изображали крепостными[28]: хотя это не имело ничего общего с действительностью[29], но зато придавало предреволюционной Франции черты, легко узнаваемые русскими читателями.
С другой стороны, для подобного рода сочинений было характерно стремление сгладить острые углы революционной истории, "подретушировав" те её моменты, что плохо соответствовали образу Революции как "праздника Свободы". Одним из таких моментов была печально известная сентябрьская резня в тюрьмах 1792 г., когда сотни заключенных, в большинстве своём не имевших никакого отношения к политике, были растерзаны толпой[30]. Однако этот трагический эпизод изображался в популярных книжках о Революции следующим образом:
"Со 2-го сентября толпы народа стали ходить по тюрьмам и избивать заключенных. Убивали не всех, а по списку, заранее составленному и проверенному; не попавших в список отпускали на волю"[31].
"…День набора добровольцев превратился в день народного самосуда, в день кровавой расправы с монархистами, с внутренними врагами отечества.…В одной из тюрем, в Аббатстве, была сделана попытка устроить нечто наподобие суда. Заключенные подвергались допросу. Тут же выносили обвинительный или оправдательный приговор… Парижане убивали своих врагов, чтобы защитить своих близких" (курсив мой — А.Ч.)[32]
Таким образом, у читателя создавалось впечатление, что имело место сугубо дозированное применение насилия, направленное против действительно виновных людей. Под пером же анонимного автора социал-демократической брошюры о Французской революции, которая после 1917 г. неоднократно переиздавалась большевиками, сентябрьская бойня и вовсе приобрела вид упорядоченного судебного процесса над преступниками:
"…B городских тюрьмах в то время сидело много аристократов и священников, против них обратилась месть парижского населения. 2-го сентября толпа ворвалась в тюрьмы и стала убивать преступников. Вначале убивали без всякого суда, но через несколько часов установили народный суд, который сперва рассматривал преступления обвиненных, выслушивал их защиту и только тогда постановлял приговор. Таким образом многие избежали смерти" (курсив мой — А.Ч.)[33]
Столь же "адресным", направленным сугубо против врагов Революции изображался и Террор 1793–1794 гг.:
"С бунтовщиками против республики, с аристократами поступали вообще со всей строгостью. Такую политику называют террором, то есть устрашением…Если бы революция не карала своих врагов, она сама стала бы жертвою смерти".
Не то что при Термидоре:
"Теперь, при буржуазном правлении, гибли массами люди невинные, искренне преданные революции, тогда как раньше гибли предатели и подозрительные, — во всяком случае, — враги народа"[34].
И даже те авторы, кто, в отличие от процитированного выше анонимного социал-демократа, лично не симпатизировали Террору, оправдывали тот обстоятельствами военного времени:
"Жестокость и беспощадность республиканского правительства по отношению к внутренним врагам можно объяснить лишь тем напряженным состоянием, какое переживали в то время французы"[35].
"Но несмотря на весь ужас террористических мер, огромное большинство народа стояло на стороне правительства, так как видело, что иначе нет никакой возможности сохранить единство и крепость республики"[36].
Еще одна печальная страница французской истории конца XVIII в. — гражданская война в Вандее, где республиканские войска, разгромив в ожесточенной борьбе восставших крестьян, устроили по приказу революционных властей массовую бойню мирного населения. В изображении же российского популяризатора истории Французской революции эти события выглядели исключительно как военные действия с равным проявлением жестокости обеими сторонами:
"Война велась со страшной жестокостью. Пленники, попавшие в руки вандейцев, подвергались немедленному расстрелу. То же самое производилось и с пленными вандейцами. После многочисленных кровопролитных стычек и битв, о которых рассказывать мы не будем здесь, восстание в Вандее было подавлено. Это случилось в декабре 1793 года…"[37]
Характерно, что автор завершил свой рассказ о Вандее именно декабрем 1793 г. Иначе ему пришлось бы вести речь о начавшемся в январе 1794 г., уже после разгрома вооруженных сил вандейцев, карательном походе республиканских "адских колонн" против мирного населения департамента[38], что, несомненно, омрачило бы тот светлый образ Революции, который создавался на протяжении всей книги. Любопытно, что в приведенном пассаже, в отличие от нелепого утверждения о "заранее составленных и проверенных" сентябрьских списках, нет ни грана вымысла. Если не считать небольшого преувеличения в том, что касается "немедленного" расстрела (на самом деле пленные нередко подвергались самым чудовищным пыткам), все остальное — чистая правда. Но только очень дозированная. Настолько, что история о геноциде революционными властями населения мятежного департамента предстает в изображении литератора обычным эпизодом военных действий, хоть и очень ожесточенных. Впрочем, в цитируемых сочинениях есть пример и более "виртуозной" подачи материала, когда автор, не прибегая к откровенной фальсификации и чередуя полуправду с недоговорками, ухитряется практически полностью "заретушировать" черное пятно вандейской трагедии на лике Революции:
"Положение восставших вандейцев было гораздо благоприятнее, нежели положение республиканской армии. Прекрасно зная местность, вандейцы быстро передвигались небольшими отрядами по узким, едва заметным тропинкам через леса, холмы и болота. Они внезапно нападали на врага, стреляя в него из-за кустов, из-за холма или плетня, и столь же неожиданно исчезали. Для республиканцев эти переходы по незнакомой местности, при отсутствии хороших дорог, были сопряжены с необычайными трудностями. Они шли большими колоннами, так как разбиваться на небольшие отряды значило бы идти на верную смерть. Неуверенно и медленно подвигались они вперед, поминутно оглядываясь во все стороны, как травленные звери. О том, чтобы передохнуть и набраться свежих сил, не могло быть и речи. Рассчитывать на гостеприимство вандейцев республиканцы, разумеется, не могли. В то время как восставшие вандейцы всюду могли найти приют и пищу, республиканцы вынуждены были повсюду тащить с собою провиант, чтобы не погибнуть от голода. Измученные телом и душой, они вымещали свою злобу на вандейцах, а те платили им той же монетой"[39].