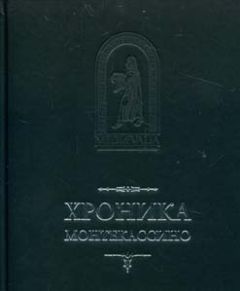Вольдемар Балязин - Русско-прусские хроники
- Что ж, извольте,- сердито пробормотал Альбрехт.
- Я хочу рассказать вам, как на самом деле обстоят наши дела. Вы, наверное, уже прочли "Старую гроссмейстерскую хронику" и знаете о событиях давно минувших дней?
Альбрехт молча кивнул.
- Я же расскажу вам о событиях недавних и тех, которые происходят сейчас. Начну, пожалуй, с того, что пять лет назад в Риме был польский епископ из Плоцка Эразм Циолек. Он добивался от папы Юлия бреве о принесении гроссмейстером присяги полякам или о переводе ордена в Германию, если гроссмейстер откажется. В конце концов папа потребовал от нас принести присягу королю Александру.
- И гроссмейстер выполнил этот наказ?
- Пока нет,- лукаво прищурился штатгальтер,- тем более что папа в прошлом году отменил свое решение и запретил нам присягать Польше.
- Как же обстоят дела сегодня?
- Три месяца назад император направил Вита Фюрста и Яна Кухмистера к королю Сигизмунду. Они договорились, что в июле этого года вопрос об ордене будет решен на конгрессе в Познани.
-Кем?
- Папой, императором, королем Польши и гроссмейстером ордена.
- Я понимаю это по-другому,- возразил Альбрехт,- решать будут гроссмейстер, папа и император, а Сигизмунд примет то, что ему скажут.
Изенбург иронически скривился:
- Может быть, через несколько лет новый гроссмейстер ордена сможет диктовать свою волю польскому королю, но ни нынешний гроссмейстер, ни нынешний штатгальтер сделать этого не могут. И как это ни прискорбно, но решать на этом конгрессе будет, кажется, как раз Сигизмунд.
Вечером Изенбург заперся в отведенной ему комнате со Шляйницом. Печально вздохнув, проговорил с грустью:
- Сдается мне, Христофор, что не такой гроссмейстер нужен ордену в наши дни.
- Что так, Вильгельм?
- Молод, наивен, упрям, обидчив.
- Ни одно из этих качеств не значится в перечне семи смертных грехов, Вильгельм.
- Надо смотреть дальше, Христофор. Чует мое сердце, приведет этот индюк орден к погибели.
- Что же ты предлагаешь?
- Как и прежде, делать наше дело, несмотря ни на что. Пока возможно, стараться поменьше обращать внимания на господина Гогенцоллерна. Он, видишь ли, верит, что конгресс в Познани переменит течение событий в нашу пользу. Наивный юнец! Был ли в истории хоть один конгресс, который пошел бы на пользу слабому? Я предвижу провал познаньского сборища. И потому, Христофор, этой осенью ты поедешь в Москву и сделаешь все, чтобы русские снова начали войну с Сигизмундом.
Глава вторая
"Затравим углежога!"
Михаил Львович ехал в Боровск - невеликий городок, пожалованный ему государем в кормление более двух лет назад. Ехал в кожаном немецком возке со слюдяными оконцами. Да не торжественно, как езживал прежде - с гайдуками на запятках, с форейторами впереди, с дюжиной верхоконных холопов, с обозом в полдюжины телег: забившись в угол, ехал сам-один с казаком своим Николкой, в простоте, без затей и без куража.
Искоса взглядывал на мокрые деревья, на серое небо. Покашливал да покряхтывал, когда рыдван то кренился, касаясь подножкой дороги, то вновь выпрямлялся - ни дать ни взять суденышко на море в дурную погоду.
Вздыхая, вспоминал минувшее: отшумели царские пиры, канули в Лету, оставив горький привкус на губах, а паче того - на сердце. Неделю пировал государь, а рядом с собой дозволил сидеть только первый день. В остальные же шесть дней допустил лишь за один с собою стол, однако ж меж ним и Глинским сидело по пять, а то и по семь человек, и Михаил Львович иной раз почти в голос кричал государю речи важные, но тот говорил с ближними к нему людьми, а Глинского не слушал.
И приходилось Михаилу Львовичу переговариваться с боярами, что сидели слева и справа, но те, опасливо покашиваясь на государя, даже кивнуть боялись, все следили, как он ныне - милостлив ли? А если и говорили, то будто бы невпопад, просто-напросто суесловя и на все про все отвечая: "Знамо дело - в иных землях и многое прочее по-иному, а цесарцы, они цесарцы и есть. Да и сам, Михаила Львович, посуди: как им таковыми не быть, когда они - немцы?"
Михаил Львович сникал, сидел молча, с тоской вспоминая застолья при дворах европейских потентатов, где живость речи почиталась едва не первейшей добродетелью придворного и одним из основных качеств куртуазии. И хорошо было, коли гость был остроумен, весел, учтив, еще же лучше, если таковыми свойствами отличался хозяин.
А здесь и гости сидели молча, испуганно и настороженно косясь на хозяина - великого князя Василия Ивановича, и хозяин восседал этаким золоченым истуканом, почти не произнося ни слова, пошевеливал бровями да перстами. Выученные слуги, ловя на лету малую тень государева соизволения, делали все так, как тог<? государь желал.
Была бы своя воля - встал бы Михаил Львович да и пошел из-за стола вон. Да только не было у князя воли, потому сидел он целыми днями за царским столом, чувствуя со стыдом, что и он, промеж прочих, все время ждет - глянет ли на него государь, захочет ли с ним перемолвиться?
В последний день затянувшегося праздника пожаловал ему Василий Иванович Малый Ярославец в вотчину, Боровск в кормление. Да брату его, Василию, Медынь. Городишки стояли купно - неподалеку друг от друга, в ста верстах к югу от Москвы.
Неспроста именно их дал Василий Иванович братьям Глинским, впрочем, и другого ничего спроста не делал. Располагались городки неподалеку от литовского рубежа, а кроме того, шли мимо них к Москве татарские шляхи.
И потому весьма пригоже было сидеть в них столь знатному ратоборцу.
И еще одну цель преследовал Василий Иванович, поселив там братьев Глинских: были Глинские на Руси чужаками, и, кроме князя Московского, не было у них никого, кто помог бы в трудную минуту. Держали они новые владения из его же царской милости и более всего должны были той милостью дорожить.
А с севера и юга от Боровска и Медыни испокон жили бунташные и своевольные родные братья Василия Ивановича - Андрей Старицкий да Семен Калужский. Хоть были они с великим князем в кровном родстве и на верность ему крест целовали, не было у Василия Ивановича надежды в преданности их и веры им, увы, не было.
Потому-то и поселил Василий Иванович меж, княжеством Калужским и княжеством Старицким своих служилых людей - Глинских, которые стали здесь как бы и оком государевым, и бранной государевой десницею.
Все это прекрасно понимал князь Михаил Львович, и оттого было ему ах как невесело...
***
В Боровск въехали на вторые сутки к вечеру. Кони протащили рыдван по ухабам и грязи, меж черными, крытыми соломой избенками.
Остановились у скособочившихся ворот. Рваный мужичонка, подслеповато щурясь, долго вертел нечесаной головой, всматриваясь: кого это черти принесли на ночь глядя? Сообразив, присел, хлопнув по коленям, испуганной курицей метнулся под колеса.
Михаил Львович печально улыбнулся: "Так ли встречали в иные-то годы?" Толкнул дверцу, слез в грязь. Смотрел, как возница его, Николка, и мужичонка тащили по лужам подворотню, а та еле шла, углом прочеркивая по грязи глубокую полосу.
Господская изба была темна. Лишь в одном окне виднелся слабый отсвет горящей лучины.
Михаил Львович, ссутулясь, прошлепал по лужам к избе, тяжко ступая, взошел на крыльцо. Из приоткрытой двери шибануло квашеной капустой, кислыми овчинами, еще какой-то гнилью.
Глинский прикрыл дверь и, повернувшись лицом во двор, глубоко вдохнул свежий прохладный воздух - будто из лесного родника в лицо плеснул. Стоял, запрокинув голову, глядел в серое небо. Ни звезд, ни луны во мраке. Землю как грязными рогожами накрыли - темнота и глушь. Голый мокрый лес чернел вдали. Чавкали по грязи мужики, распрягая коней, кричали вороны в старых омелах на огороде.
Набрав полную грудь воздуху - чтоб, не дохнув, проскочить зловонные сенцы,- Михаил Львович со злостью пнул дверь и ввалился в теплый смрад избы.
В горнице, засветив лучину, сидела простоволосая старуха - худая, маленькая. Равнодушно глянув на хозяина, прядение свое, однако же, отложила в сторону, встала, не то нехотя, не то устало, сложив руки на животе, поклонилась малым поясным поклоном.
Михаил Львович, скинув шубу на лавку, проговорил ворчливо:
- Неси-ка чего погорячей. Зазяб я с дороги.
Старуха молча пошла к печи, загремела горшками.
"Так ли встречали два года тому",- снова подумал Михаил Львович.
Два года назад, как только дали ему Боровск в кормление, смерды при встрече чуть ли не на колени падали. Шапки с голов у них ветром сдувало. Знали, сиволапые: полтора, а то и два года будет сидеть здесь Михаил Львович и с каждого получит все, что потребно. Однако ж знали смерды и иное: более чем на два года государь никому ни сел, ни городов в кормление не давал. Кормленщику же после того, как срок выходил, надобно было прожить на собранное еще лет шесть и более ничего с подначальных людей отнюдь не брать. А ныне то и случилось: пошел третий год. Нового кормленщика государь пока не ставил, и Михаил Лыювич был теперь для боровчан почти такой же, как и иной проезжий князь - не хозяин и не господин.