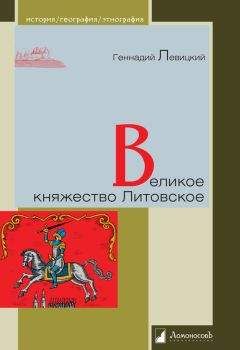Владислав Реймонт - Последний сейм Речи Посполитой
- Благодетель ты мой дорогой! - воскликнул подкоморий, обнимая его. Типун мне на язык, ежели я думал тебя обидеть. Я-то больше, чем кто другой, расхваливаю весь состав и знаю, что вы одни стоите на страже, в то время как все либо спят, либо складывают руки, отуманенные кошмаром предательской дружбы.
Он вдруг сразу замолк, так как из дальних покоев загремел чей-то раскатистый бас:
- Смею вас уверить, господа, что все, что делают наши союзники, - они делают для нашего блага. И только при ее великодушном покровительстве...
Подкоморий прикрыл дверь, но Заремба успел услышать и процедил сквозь зубы:
- Совсем как в басне о волчьей опеке над стадом баранов.
- А хуже всего то, что говорит это честный человек и гражданин и что так же, как и он, свято верит в это почти вся Литва. Одно отчаяние с этими слепцами!
- Прозреют, только будет уже поздно.
- Коссаковские дурят им голову в этом направлении и открыто говорят, что для Литвы единственное спасение - связаться добровольной унией с Россией.
- Они верят всяким нашептываниям, не внемлют только голосу совести и долга!
- Да, Езерковский, секретарь сейма, говорил мне, что Залуский, депутат из Сандомира, заручился уже местечком придворного казначея.
- Это "она" выслужила у Игельстрема, - она ведь его любовница.
- А Миончинский, люблинский депутат, получил чин полевого секретаря его величества.
- Оба - висельники, один - сводник, другой - разбойник с большой дороги.
- Послу нужно в сейме побольше вельможных голосов, вот он и заставляет назначать на высокие посты своих приспешников. Король ведь противиться не станет.
- Меня не удивит теперь даже, если великим коронным гетманом будет назначен архипрохвост и низкопоклонник Любовидзкий.
- Да, кстати, Браницкий ведь отказался от гетманской булавы. Шепчутся люди, будто "народом избранный" гетман Коссаковский хлопочет о ней в Петербурге для себя. А король с Сиверсом хотят поставить Ожаровского. Есть, однако, другие, желающие видеть коронным гетманом волынского депутата Пулаского.
- За подвиги и заслуги, что ли, его брата, покойного Казимира? Я думаю, все это только интриги, чтобы поссорить между собой членов сейма. Пулаский уж и так попрекает тарговицких союзников в ненасытной жадности и продажности.
- В данный момент нам нужен совсем другой вождь.
- Я-то даже знаю - кто. Но пока что Пулаский пригодился бы для наших планов: это человек, горячо любящий родину.
- Уж не из этой ли любви к родине предводительствует он Тарговицей?
- Имеется, я слышал, проект, - продолжал Зелинский, не обращая внимания на язвительное замечание Зарембы, - чтобы на сейме предложить его королю и депутатам кандидатом на великую булаву. Микорский решил взять слово в его пользу. Как вам это нравится?
Я своего протеста заявлять не буду, потому что во всех этих делах ничего не смыслю, - увернулся Заремба от неприятной темы и встал, берясь за шляпу.
- Ну а теперь пойдемте, благодетель мой дорогой, закусить, - там нас ждут. Познакомитесь с несколькими горячими оппозиционерами и с капитаном Жуковским.
- Я принципиально не общаюсь с оппозицией, чтобы не привлекать на себя внимание шпионов. В Гродно каждый честный человек считается подозрительным и находится под бдительным наблюдением. Мне приходится, безопасности ради, надевать на себя личину ярмарочного зеваки или гуляки, - объяснил Заремба серьезным тоном. Должен был, однако, пообещать прийти завтра обедать, за что пан подкоморий горячо пожал ему руку и сказал на прощанье:
- Считайте мой дом во всякой нужде своим.
Заремба отослал лошадей и почти бессознательно очутился перед домом Изы как раз в тот момент, когда туда подъехал фон Блюм и солдат вынес за ним из экипажа огромную корзину роз. Они поздоровались очень дружески, причем офицер покровительственным жестом приглашал его войти.
- К сожалению, у меня нет времени. Мне хотелось только узнать что-нибудь о пане кастеляне.
- Завтра приезжает. Так говорила за обедом панна Тереня. Сегодня мы идем в театр, не соберетесь ли вместе с нами?
- А большая будет компания?
- Только свои: камергерша, панна Тереня, я, ну и сам камергер.
- А князь? - не мог удержаться Заремба от вопроса.
- Явится к концу спектакля. Сейчас у него над душой младший Зубов, приехал из Петербурга. Он награбил роз у Сиверса и поручил преподнести пани камергерше. Теперь он блаженствует: вернул себе утраченную милость, рассказывал фон Блюм спокойным тоном, с глуповатой улыбкой.
- Я очень рад, - проговорил заикаясь Заремба, заставив себя прибавить несколько слов в оправдание тому, что князь и фон Блюм не застали его дома.
- Князь очень жалел, так как заезжал к вам, чтобы выразить благодарность.
Лицо Зарембы выразило неподдельное удивление.
- Он признался мне, что благодаря вашему заступничеству получил прощенье.
- Моему заступничеству? Ах, да, да, - засмеялся он как-то странно и, попрощавшись с фон Блюмом, пошел медленной-медленной походкой, точно сгибаясь под тяжестью стопудового груза.
- "Благодаря моему заступничеству"! - повторил он с невыразимым чувством. - Отплатила мне! Как последняя девка! - вспыхнул он на одно мгновенье, но вскоре надел на себя маску безразличия, остановился у кафе, где, как каждый день в это время, собиралась модная молодежь, разглядывавшая проезжающих дам.
Был там и Марцин Закржевский, но какой-то кислый, ворчливый и в таком настроении, словно искал случая, чтобы устроить кому-нибудь скандал.
- Ты сегодня угрюм, точно пани подкоморша дала тебе отставку, - шепнул ему Заремба.
- Ты несколько ошибся, но кто-то мне у нее строит козни, - посмотрел он подозрительно на Севера.
- Подозрение совершенно ложное, ищи другого следа.
- Если бы я знал, кто мне там портит дело! - пробурчал Марцин, подергивая усики.
- Ты бы лучше смотрел, чтобы тебя не отставили от Терени.
- Ты хочешь меня обидеть или предостеречь? - подступил к нему Марцин с угрожающим видом.
- Я хочу только, чтобы ты видел, кто тебе строит козни и где...
Закржевский побледнел. Его обычно кроткое лицо застыло, точно окаменело.
- Я считаю тебя другом, можешь меня не щадить.
- Сам узнай! Дамы будут сегодня в театре, конечно, в сопровождении... Помни только, что Сиверсовым офицерам запрещено драться на дуэлях!
- Но мне не запрещено намять каждому из них бока, хотя бы палкой.
- И проехаться за это в Калугу... Малое удовольствие и не ведет к цели. Не устраивай скандалов. Надо поискать средств подейственнее.
- Жди тятька лета, а пока кобылку волки слопают, - буркнул презрительно Марцин и убежал.
Заремба тоже собирался уже уходить, как вдруг из кафе выкатился какой-то огромный пьяный мужчина и шлепнулся на него всей своей тяжестью, бессвязно бормоча повелительным тоном:
- Веди меня, сударь, - и икнул ему прямо в лицо.
- Я тебе не слуга, - оттолкнул его с отвращением Заремба, так что тот ударился о стену и, судорожно ухватившись за нее, завизжал плаксивым тоном:
- Да помогите же, сукины сыны! Эй вы, шушера! Позовите мне экипаж!
Никто не спешил помочь, зато градом посыпались насмешливые замечания.
- Растянется перед кафе, приберут его полицейские.
- Скотина паршивая! Сейчас изукрасит тут стену!
- Отдать его патрулю. Проспится в кордегардии, тогда сам уж попадет к Массальскому.
- Бог правду видит, да не скоро скажет, - проговорил кто-то из прохожих.
- Так гибнет великая слава! - прибавил другой по-латыни, плюнув в сторону пьяницы.
- Эх, господа, господа, - вмешался какой-то солидный мужчина в кунтуше, - как вам не стыдно издеваться над пьяным и выставлять его на посмешище толпы! Закройте его хоть от посторонних, я сбегаю за каким-нибудь экипажем.
Молодые люди без особенной охоты закрыли пьяницу своими спинами от глаз прохожих, поддерживая, чтобы он не упал.
- Что это за фрукт? - спросил Заремба, указывая на пьяного.
- Понинский, бывший казначей Речи Посполитой, теперь последний пьяница.
Это был действительно пресловутый князь Адам Понинский, в свое время главнейшая и подлейшая личность в Речи Посполитой, которого сеймовый суд присудил, как врага отчизны, к лишению чести, шляхетства, титулов, фамилии и чинов и к пожизненному изгнанию из страны. Предполагалось даже провезти его по улицам города под звуки труб и объявить изменником.
"Один из худших, но не единственный", - подумал Заремба, глядя с брезгливым состраданием на его мерзкое, словно забрызганное грязью и подлостью, лицо.
- Тарговица вернула ему права, но все бегут от него, как от заразы.
- Кто может снять позор с этакого! - раздавались голоса рядом с Зарембой.
- Даже прежние друзья и те от него отрекаются. Один только епископ Массальский дает ему приют да иной раз бросит ему несколько дукатов. Воображаю, как его грызет совесть.
- Совесть и Понинский! Ха, ха! Не слыхал ты, как видно, какою он пользуется славой.