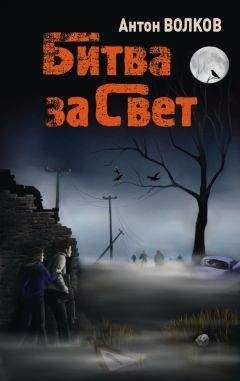Николай Карабчевский - Что глаза мои видели (Том 1, В детстве)
Бог весть, каким чудом эти четыре глупых стишка, однако, застряли в моей памяти.
К концу нашего пребывания в Кирьяковке, перед отъездом Грации Петровны и Мани в их неизбежный Эмс, было большое, не вполне понятное мне тогда, торжество.
Наехали какие-то власти из Херсона, был на лицо мировой посредник с отвисшими усами, были и гости, соседние помещики.
Утром были собраны крестьяне на молебствие, которое причт соседнего села Солонихи служил с большою торжественностью на открытом воздухе.
Потом для крестьян-домохозяев были накрыты в саду столы и их угощали сытным обедом, причем в стаканчиках разносили водку, а на столах были кувшины с пивом и медом.
Аполлон Дмитриевич, со стаканом в руке, говорил, стоя в середине столов, речь и выпил за здоровье своих "будущих добрых соседей", обещая жить с ними мирно и ладно.
В ответь обедавшие крестьяне благодарили и Аполлона Дмитриевича и дядю Всеволода, который был тут же, называя их своими новыми владельцами.
Вечером для деревенской молодежи было устроено во дворе особое празднество. Тут были и парни, и девушки; старики, со старухами и малолетками, тоже пришли поглядеть.
Всех угощали сластями, орехами и медовыми пряниками.
Девушки водили хоровод и пели. Порою в их круг врывались парни, иные из них ловко и ,,фигуристо" отплясывали ,,казачка".
Кирьяковские крестьяне почти сплошь были ,,хохлы", все народ видный и рослый. Девушки, как на подбор, были красивые, статные, в своих ярких, пестрых нарядах. Пенье было складное, без выкриков и под сводом звездного, точно смоль, черного неба, казалось, поднималось в высь легким дымком.
Грация Петровна, пышно разряженная, стоя на террасе, окруженная гостями, величественно, словно царица, благодарила девушек и парней за доставленное удовольствие.
Все шло великолепно. Аполлон Дмитриевич, как всегда, несколько суетливый, не скрывал своего восторга. Дядя Всеволод, более спокойный, имел также довольный вид.
Но, к концу празднества непредвиденное несчастье всех повергло в расстройство и уныние.
У Тоси этим летом был учитель, готовивший его в гимназию, дюжий студент Дерптского университета, сын пастора в Николаеве, Кибер.
Он считался силачом и спортсменом и часто затевал всевозможные игры в воздухе: в гуси-лебеди, в горелки и так далее.
И тут он не преминул наладить серию таких игр, в которых приняли участие не только мы, но кое-кто из деревенских парней и девушек, побойчее.
Вокруг скучилась деревенская детвора и жадно глазела на разыгравшихся "панов".
Во время одного из своих разбегов, когда ему пришлось быстро попятиться задом, чтобы уклониться от настигавшего его парня, злополучный Кибер, со всего маха сшиб пятилетнюю. крестьянскую девочку, зазевавшуюся на играющих.
Несчастный ребенок повалился замертво навзничь на землю и кровь фонтаном хлынула из горла.
Через несколько секунд все уже знали, что она мертва.
Ее бережно снесли в ближайшую людскую и скоро отсюда. понеслись душу раздирающие плач и вой ее родителей и многочисленных родственников.
Поднялось общее смятение.
В толпе начался ропот, послышались даже угрозы по адресу Кибера.
Несчастный схватил себя за голову и бегом пустился куда-то.
С Грацией Петровной сделалась истерика и доктор увлек ее в ее апартаменты. Аполлон Дмитриевич обратился к толпе с речью, желая успокоить ее, а дядя Всеволод ходил в людскую к родителям убитой девочки и делал распоряжения относительно панихиды на завтрашнее утро. Все искренно жалели и оплакивали несчастного ребенка.
Всю ночь из людской неслись жалобные причитания и женские голосистая завывания.
Гости мигом разъехались, а домашние, кто куда, забились по своим углам.
Кибера напрасно искали, - его нигде не могли найти.
В полутемном коридоре я наткнулся на рыдавшую Талочку. Упершись локтями в подоконник и закрыв лицо руками, она вздрагивала, ее плечики подергивало, как в лихорадке.
Затаив дыхание, я приблизился к ней, испытывая болезненно-острое наслаждение при одной мысли, что именно я, один я, с нею, пока она так страдает.
Жгучий толчок меня приблизил к ней и какая-то дикая смелость овладела мной. Я ухватил ее голову своими руками и стал без конца осыпать беззвучными поцелуями ее волосы, шею и обнаженный плечики.
Она не сопротивлялась и не меняла положения.
Но, вдруг, послышались голоса сестры и Жени. Они кликали Талочку. Я встряхнул ее, она откинулась и беспомощно положила руку на мое плечо. Это прикосновение обожгло меня.
Я держал ее еще в своих объятиях, когда Женя и сестра приняли ее от меня и увезли с собою.....
Так улетело мое сновидение.
Я долго не мог заснуть в своей постели, прислушиваясь, как ровно сопит и дышит Тося. Со двора все еще неслись какие-то заглушенные вскрики. Чуялась тревога, близость где-то притаившейся смерти. Она подстерегала каждого ... и Талочку.
Как бы я укрыл ее здесь в теплой постели, крепко обхватив ее дорогое тельце.....
На другой день все разъехались.
Кибера нашли под утро спящим в отдаленной беседке сада.
С рассветом его с предосторожностями переправили в город.
Талочку я видел только мельком, когда она с Грацией Петровной, Маней и Женей, отъезжала в коляске от крыльца.
Для нас с mademoiselle Clotilde подали отдельный экипаж.
Тося и Саша еще раньше уехали с Кибером.
Дядя Всеволод и Аполлон Дмитриевич остались в Кирьяковке, чтобы уладить дело с родителями убитой девочки и почтить своим присутствием первую панихиду по умершей.
Когда, накануне, ее, уже мертвую, отнесли в людскую, я не утерпел и, вслед за дядей Всеволодом, проник туда и разглядел ее.
У нее было милое, загорелое, чистое личико.
Большие серые глазки, оттененные темными ресницами, еще были широко открыты.
Ласково-детское любопытство, с которым она доверчиво впилась в игры взрослых, так и застыло в них навсегда.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ.
Когда, в начале осени, я нервно и тревожно уже готовился к вступительному экзамену в гимназию, мы, с сестрой, почти одновременно, заболели корью.
Начиная с сознательного возраста, я не помнил никакой, более или менее длительной, или серьезной своей болезни.
Еще при Марфе Мартемьяновне, когда мы не обедали за общим столом, мне случалось "обкушиваться" и нередко.
Тогда, по дороге из Морского Госпиталя, заезжал к нам престарелый Никита Никитич Мазюкевич, женатый на родной сестре покойного моего отца, Александре Михайловне.
С сестрой, мы прозвали ее "черной тетей Сашей" потому, что ее округлое, все еще красивое лицо, было точно бронзировано, до того она была смугла.
Любила же она одеваться, при своих седых волосах, во все белое, или светло-лиловое так, что контраст ее "черноты" был разительный.
,,Une mouche dans du lait" (Муха в молоке.) - сказала про нее mademoiselle Clotilde, когда съездила к ней с нами впервые знакомиться.
Под конец, я уже знал заранее, что именно пропишет добрейший Никита Никитич после того, как постукает мой живот и я высуну и покажу ему свой язык: очень противную сладковатую, бурого цвета, микстуру, - "бурду", как окрестила ее сестра Ольга.
После трехдневной диэты на молочной кашке, или бульоне, наступал блаженный миг, когда сама мама приносила специально для меня, "выздоравливающего", изготовленную собственноручно милейшею Надеждою Павловною, пухленькую котлетку, вкуса изумительного.
Это всегда знаменовало полное мое выздоровление и на следующий день я уже бегал, "как встрепанный".
Когда умер Никита Никитич Мазюкевич, его сменил, в качестве домашнего врача, Антон Доминикович Миштольд и мои заболевания стали еще более редки, хотя раз, помнится, мне почему-то ставили за ушами пьявки, для чего приходил "армянский человек", Иван Федорович, никогда мой беспощадный "стригун-цирюльник".
Когда мы с сестрой только что заболели корью, мама очень встревожилась, боясь осложнений.
Но "Доминикич" ее успокоил.
Болезнь протекла правильно без малейших осложнений и у меня об этом времени, как и вообще о всех моих заболеваниях, сохранилось самое отрадное, а на этот раз, почему-то, и очень яркое воспоминание.
"Сидеть в карантине", т. е. никуда не выходить из комнат, нам пришлось долго, но это не только не было для нас лишением, но, наоборот, казалось самым светлым оазисом и без того счастливого детства.
Мама и mademoiselle Сlotilde, оставившая на это время свои уроки в городов, были неотступно с нами, став буквально нашими пленницами.
Никто из родственников и знакомых, боясь заразы, к нам не ходил, мама тоже никуда не выезжала.
Дядю Всеволода мама также в дом не впускала, опасаясь, чтобы не заболела Нелли.
Он должен был довольствоваться тем, что раза два в день видел нас ,,через окно", подходя к окнам наших. спален, которые выходили в сад.
Всякое учение было отменено и никаких учителей мы не видели в течение шести недель.