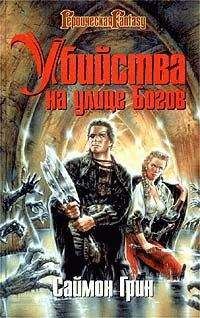Валентина Брио - Поэзия и поэтика города: Wilno — װילנע — Vilnius
Все эти впечатления (очень сильные, по свидетельству самого Шнеура) отразились и в поэме «Вильна», и в других его произведениях.
«Вильна» — одно из первых «урбанистических» произведений в еврейской литературе. Об этой особенности творчества поэта писал Клаузнер: «Шнеур — поэт города… Жизнь современного большого города в ее мешанине превзошла самое пылкое воображение. Горизонты жизни в современной столице расширились до бесконечности… Он вывел нашу поэзию из „угла“… Он вывел ее на простор — в большой мир, в европейскую столицу»[283].
Содержание поэмы — воспоминания о том городе, который автор знал до Первой мировой войны. Эти воспоминания окрашены легкой ностальгией, порою звучат несколько сентиментально. Но сюжетно-композиционная структура создает драматически напряженное содержание, в котором соединяются и сталкиваются разные аспекты и проблемы как собственно еврейской жизни города, так и взаимоотношений с окружением.
В сложной образности поэмы Шнеура речь идет почти исключительно о еврейском городе. Автор-персонаж в воображении проходит по тому давнему, оставленному им городу, отдельные локусы вызывают раздумья о прошлом и настоящем, о себе самом и о судьбах своего народа. В поэме шесть глав (308 строк), и почти каждая открывается зачином «помню я…» или «я любил…», затем следует описание — оно и эмоционально, поскольку поэт переживает свои воспоминания, и интеллектуально, как размышления о связи прошлого и современности.
В отличие от многих других произведений Шнеура, поэма «Вильна» чрезвычайно насыщена именами конкретных знаменитых людей, связанных с этим городом, именами еврейских писателей, книги которых он читал в детстве. Ярко описана работа типографии и перечислены ивритские книги — религиозные и светские, — которыми может гордиться Вильно. Поэт использует библейскую лексику и фразеологию, идиоматику и сталкивает ее с современными ему реалиями города (к сожалению, эти особенности трудно передать адекватно и в переводе, и в комментариях). Нагнетанием синонимических образов или слов в определенных мотивных «узлах» поэмы Шнеур усиливает их эмоциональное звучание. О языке Шнеура писал критик И. С. Гуревич: «Шнеур — несравненный мастер языка; из ряда синонимов он с инстинктивной верностью всегда выбирает самый подходящий; в то же самое время он показывает, какое богатство оттенков в языке Библии… он с несравненным чутьем сделал этот язык в настоящем смысле модерным, живым, своеобразным и гибким»[284].
Поэма открывается взволнованным обращением к городу; она начинается и объединяется образом города в облике почтенной старой женщины в заплатанном чепце и старом фартуке: матери, бабушки, на плечи которой легли и житейские заботы, и горести недавней войны.
Вильна, великая наша бабушка, город и мать во Израиле,
Иерушалаим галута, утешение народа востока на севере![285]
Шнеур опирается на библейские образы. Он употребляет языковое клише «ir ve-em be-Israel» — город и мать во Израиле (т. е. город-центр для окружающих его городов; употребление этого выражения утратило связь с контекстом первоисточника — 2 Сам. 20:19). «Город-мать» для языка поэмы — иврита — звучит естественно: в нем слово «город» и его имя Иерусалим, как и его синонимы: Сион (Цион), дочь Сиона, а также Иудея, Исраэль — женского рода. Несомненно, за этим стоит и традиционное библейское представление Иерусалима как женщины, вдовы (ср. Eicha — «Плач» Иеремии, Книга пророка Исайи и др.; к этим мотивам автор вернется в конце поэмы[286]). Так Вильна включается в пространство ТаНаХа — Священного Писания.
Это твой заплатанный чепец словно крыша старой синагоги,
Возвышается в глазах внуков твоих превыше позлащенных куполов
(башен);
Своим ветхим фартуком, расшитым львами и коронами,
Словно священная завеса [Храма], не раз утирала ты их слезы,
А прославленными пуримскими медовыми пряниками и пасхальным
вареньем
Подслащала их горести и утешала возвышенными творениями своих
писателей.
Вильно предстает в образе состарившейся матери, бабушки[287] — старшей в роду, которая по-матерински утешает своих детей.
Образами, прочно укорененными в традиции, Шнеур сужает пространство города до пространства дома… Еврейский дом — царство женщины («eshet heil'» — добродетельной жены), где будничное и возвышенное рядом, где бытовое освящается. Стихи из Mishley, Притчей — 31:10–31: «Кто найдет жену добродетельную, выше жемчугов цена ее…» — обычно поются перед Субботней трапезой как гимн в честь хозяйки и всех присутствующих женщин. Еврейское пространство города является домом, а дом расширяется до всего города, словно подтверждая тезис Гастона Башляра «дом — это весь мир»[288]. Картина дополняется «лицами Виленского гаона и Моше Монтефиори, встречающими гостей», т. е. их портретами в домах жителей. Так и в дальнейшем развитии поэмы.
Даже водоносы твои черпали из источников твоих мудрецов.
Каждая стена впитала традиции вместе с запахом субботних яств.
Субботние песнопения «маленького хозяина» выводит Вилия
на своем берегу,
Строфы поэта Михаля декламируют шепотом тополя.
Здесь Шнеур следует за библейской традицией, где водоносы (наряду с дровосеками) представляют низшие социальные слои в еврейской общине[289], тем самым подчеркивая ученость, духовность всех жителей города. «Маленьким хозяином» называли в Вильно легендарного хазана Йоэля-Давида Левенштейна (1817–1850), одаренного уникальным голосом и редкими музыкальными способностями[290]. Послушать его — из экипажей, которые останавливались под самой стеной Большой синагоги на Еврейской улице, — съезжалась польская знать.
Суббота (shabát) — важнейшая из основ еврейского традиционного образа жизни, заповедь, данная в Синайском откровении; поэтому она и использована для определения Вильно как города, хранящего традицию (а таким его видел не только Шнеур, но очень многие[291]). Упоминание Михаля (то есть поэта Михи Йосефа Лебенсона), так же как и еще один образ реального жителя — Виленского Гаона, передает духовную ауру еврейского города. Без знаков памяти о Гаоне рабби Элияху и его славном времени не обходится в своем обращении к Вильно ни один еврейский писатель.
Поэма вообще насыщена реальными именами и топонимами, узнаваемыми и сегодня; включает она и значительный «внетекстовый контекст» (по М. Бахтину[292]).
Далее следуют личные воспоминания о прогулках «в тени твоих холмов» (2), о достопамятных для евреев местах: дереве на могиле гера-цедека (прозелита) графа Потоцкого, о библиотеке Матитьягу Страшуна, о других известных людях.
Очерченное пространство заселяется, перечисляются разные группы жителей — социальные, возрастные и т. п.
Юношеские воспоминания вызывают и поэтические картины природы, открывающиеся с Замковой горы, и бытовые сцены в уличной толпе еврейских кварталов: нищие попрошайки, хватающие за полу приезжих; продавцы моченых яблок, предлагавшие осенью на улицах свой товар «с возгласами и победными криками, словно выдержанное вино Испании» (3); торговки вареными бобами.
Поэма строится на постоянных переходах, контрасте: величие и бедность, поэтичность прошлого и его трагизм, традиция и новые веяния, возвышенные духовные интересы и житейски-бытовые.
Автор обращает взгляд в прошлое и словно видит весь город с высоты Замковой горы (вторая глава):
Башни и улицы громоздятся в витающей золотистой пыли,
Не пыль ли то легенд носится в твоем воздухе до сей поры,
Не дым ли мученического костра графа Потоцкого?
Иль колесницы Хмельницкого и его разбойников мчатся громить тебя?..
Иль все в пару кони Наполеона, в мороз спасающегося бегством?..
Укрупнению плана пространственно-топографического соответствует и укрупнение плана исторического. Самая высокая точка, с которой автор видит город, Замковая гора, является историческим и легендарным началом города. По этим причинам, вероятно, Шнеур почти не описывает здесь город, но сосредотачивается на важных для еврейского Вильно исторических событиях.
Упоминаются католические процессии; взгляд переносится вниз, к подножию Замковой горы и величественным развалинам — свидетельству языческих времен литовской истории:
А у подножия горы многочисленные развалины
Храма Перуна, повеление о нем Гедимин получил во сне,
Там сжигались кости князей под молитвы и пляски,
И слышались стенания жертв из «сада тельцов», снизу.
Слой на слой — накладывались ушедшие эпохи,
И на верхнем слое, у подножия оставшейся стены,
Дети играют в крокет.
Завершается «исторический экскурс», конечно, символически. А взгляд поэта устремлен на Троки — Тракай, где живут караимы — «утраченные братья», что вызывает у автора определенную рефлексию. Пространственный объем раздвинут вширь и вдаль, и горизонтально, и вертикально.