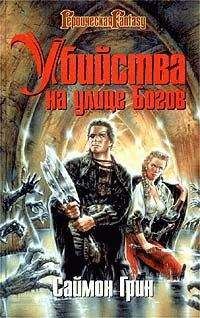Валентина Брио - Поэзия и поэтика города: Wilno — װילנע — Vilnius
Еврейское общество в этом городе, который называли „еврейскими Афинами“, составляли именитые, богатые и частично еще консервативные еврейские семейства и маленькая группа прогрессистов — представителей новых идей. Но приверженцы просвещения сидели тихо и не решались, как в Ковно, выступать против старой традиции. Потому что здесь, в Вильне, старики сохранили свой авторитет… Вильна, оплот талмудической учености, город великой общины с ее многочисленными школами и знаменитым синагогальным двором, где сотни старых и молодых людей днем и ночью штудировали Талмуд, эта Вильна производила сильное впечатление на поклонников современности. И они не отваживались публично хвастать своей „просвещенной безрелигиозностью“»[272].
Конец XIX — начало XX века стал и временем расцвета литературы на иврите и на идиш. В 1890-е годы здесь был основан Бунд — еврейская рабочая партия; в 1920-е гг. Вильно стал центром сионистского движения. В это время в Вильно выходило около 15 еврейских газет и журналов, работало Историко-этнографическое общество (основанное С. Ан-ским), в 1924 г. был основан И ВО — научно-исследовательский институт по изучению культуры и языка идиш. Известность приобрела группа молодых литераторов «Юнг Вилнэ».
В этой главе будет часто упоминаться еврейский квартал города. Думается, необходимо дать общее понятие — что же это такое? Чем этот квартал (или кварталы) отличался от других? Пожалуй, одно из лучших — точных и конкретных описаний еврейского квартала содержится в книге историка Исраэля Когена «Вильна» (1943). Оно дает и представление о еврейском квартале в европейском городе вообще: как он складывался, застраивался и обустраивался, где находился.
Как пишет Коген, в 1633 г. король Владислав IV определил для евреев Вильно место, ограниченное тремя улицами: Żydowska (Еврейская), Jatkowa (Мясной ряд; мясные лавки) и Świętomichalska (св. Михаила). Это пространство очень скоро стало тесным, и евреи долгими десятилетиями добивались у муниципальных властей права селиться и за его пределами. Привлекала расположенная поблизости (и пересекавшаяся с Еврейской) ул. Немецкая (Niemiecka) — она вела к Ратуше и рынку и являлась важной деловой магистралью города. Приведем выдержки из описания Когена:
«Район, в котором жили евреи, был так ограничен, что жители были вынуждены использовать его возможности до предела. Создавались внутренние улицы во дворах позади домов. Каждый двор — Hof — имел Durchhof, или переулок, который вел с одной такой внутренней улочки на другую, и каждый Durchhof был застроен по бокам маленькими лавками. Каждая дверь и каждое окно использовались лавочником и ремесленником для склада товаров или инструментов; они даже устраивали уголки и шкафы в задних стенах, к которым прикрепляли двери: чтобы выставить товары. Те, кто не мог использовать эти возможности, располагали свои товары или инструменты прямо на улице, во дворе или переулке. Весь район был словно улей, кишащий людьми, мужественно боровшимися за приличное существование во враждебном окружении, при этом ни на йоту не уменьшая традиционной преданности духовной жизни.
<…> Дома были построены в основном прочные, но часто сгорали и восстанавливались. Обычно они состояли из 2–3 этажей, с подвалом, и содержали несколько отдельных квартир для разных семей. Некоторые подвалы на Еврейской ул. были очень глубокие, темные и сырые, без луча света или дуновения воздуха… Каждая квартира обычно имела гостиную и спальню, со шкафами в стенах. Дверь на улицу была железная, и окна были с железными ставнями как необходимость защиты от погромщиков; но были и веранды перед домом, которыми пользовались в мирное время. Кроме того, много больших домов, бывших собственностью одного или нескольких помещиков, иногда заселялись более чем 15 семьями, и в некоторых случаях даже вдвое большим их числом»[273]. Добавим, что характерной чертой части домов было расположенное вплотную к двери окно. Как правило, оно служило прилавком для торговли. Такое окно в еврейском квартале как бы усиливало символику открытости, встречи, человеческого общения (и уменьшало символику окна как места опасного). Еврейские кварталы развивались, разрастались из средневековых гетто, как происходило во многих городах Европы; поэтому сохранившиеся их части в Испании, Польше, Италии так похожи.
Если вернуться к литературе, то урбанистические мотивы у еврейских писателей появляются с развитием новой еврейской литературы на идиш и на иврите (древнееврейском), как правило, с конца XIX века.
Определенная традиция в описании Вильно восходит к творчеству Михи Йосефа Лебенсона (1828–1852), хотя, строго говоря, о Вильно он не писал. Талантливый поэт и переводчик, Михаль, как его еще называли (акроним), за свою короткую жизнь (он умер от чахотки) внес существенный вклад в еврейскую литературу на иврите. В поэзии он выразил глубину и драматичность душевной жизни и запечатлел красоту природы, которую тонко чувствовал. Это было новым для его времени. Критик Йосеф Клаузнер позднее писал о «ярком и красочном слоге»[274] лирики Лебенсона. Описания природы и города в его поэмах выдержаны в библейской традиции, что соответствует их тематике: «Соломон и Экклезиаст» («Shlomo ve-Kohelet»), «Месть Самсона», «Иегуда Галеви» (сб. «Песни дщери Сиона» — «Shirey Bat Zion», Вильна, 1851). Пейзаж в лирических стихах Лебенсона (сб. «Арфа дщери Сиона» — «Kinor Bat-Zion», Вильна, 1870) не индивидуализирован как виленские окрестности (или другие), однако нельзя отрицать и того, что за ним скрываются впечатления реального окружения. Во всяком случае, существовало и такое восприятие его поэзии и читателями, и критиками[275]. Он был романтиком, каким и остался в памяти современников, а в дальнейшем стал полулегендарным любимым героем еврейского Вильно и его писателей. Место его и значение в еврейской культуре Вильно сопоставимо с местом и значением Мицкевича для польской культурной традиции. Поэтически претворенный в стихах Лебенсона образ библейского города (Иерусалима прежде всего) был усвоен последующей литературой и использовался в описаниях Вильно (подробнее об этом ниже).
1. Мордехай Цви Мане
Исключительной стала роль Вильно для художника и поэта Мордехая Цви Мане (1859–1886), в творчестве которого этот город впервые стал особым мотивом. Семнадцатилетним юношей он прибыл в Вильно в 1876 г. из родного местечка Радошковичи, учился в ешиве, а затем и в Школе рисования, о которой мечтал, прожил в Вильно около трех лет. Здесь пробудился его талант поэта. Вильно оказал влияние и на творчество, и на формирование личности Мане. Он впервые в жизни увидел большой город как особый мир и впечатления свои выразил в стихах и письмах (которые представляют собой оригинальную эмоционально-лирическую прозу).
«Небо скоро прояснилось, и свет дня залил стены города и величаво возвышающиеся дома, крашенные зеленым и красным, крытые жестью великолепные крыши. Кареты и телеги летят, грохочут по мощенным камнем улицам. Веселый многолюдный большой город представился моему взору»[276]. Реальная картина, открывшаяся от виленского вокзала, — скорее, картина большого города вообще. Он и поражал прежде всего движением, шумом, темпом жизни, как сказали бы мы сейчас. «…Такой большой и шумный город как Вильна… город многолюдный, улицы которого наполнены шумом экипажей и дрожек, снующих во все стороны, город, улицы которого шумят голосами множества суетящихся людей, приезжающих сюда со всех концов, город, в котором нет человека, который бы не трудился целый день без передышки, добывая пищу…» (140–141). В дальнейшем в описаниях появляются конкретные, свойственные лишь этому городу детали: «Прекрасные дачные домики, утопающие в зелени так, что видны лишь крыши да верхушки благоухающих цветущих яблонь» (152).
Появление в Вильно молодых евреев из провинции, из окрестных местечек, нередко именно так уходивших в «большой мир», чем-то напоминает появление здесь в начале XIX века молодых «засцянковых» (мелкопоместных) шляхтичей, приехавших учиться (как Мицкевич и его товарищи). Для тех и других это начало пути: образования, вхождения в мир и культуру. Вильно заманчив для них — столица и город надежд, «центр мира» и отправной пункт.
Но настоящим открытием для Мане стал не столько сам по себе город с улицами, зданиями, а его живописные окрестности — окружающая природа. Таково Вильно в его стихах: прекрасная природа в красках и запахах, а город — общим планом внизу, что соответствует реальной топографии (Вильно расположен в окружении холмов) и состоянию поэта, романтически возвышенного над земным: идеальное пространство для творчества.
В Виленские горы вышел я погулять.
Взобрался на высочайшие вершины.
Здесь тишина, и веет легкий ветерок,
И сухие травы.
Я чистый, сладостный воздух вдыхаю,
На крыльях орлиных возносится мысль,
Здесь вся природа мне улыбается.
И Вильна в долине пред взором моим.
Мане один из первых, вслед за Михой Йосефом Лебенсоном, обращается в стихах к изображению природы. И ему удается выразить живые впечатления, состояния, связанные с нею. Мане много размышлял и объяснил, почему «увидел» природу, лишь перебравшись из сельской местности в город (в этом особенность еврейской местечковой жизни): «Окрестности Радошкович чужды мне, как и окрестности Варшавы. Ребенком я никогда не выходил погулять… Мог ли мальчик оставить узкий и мрачный хедер [начальную школу] и прогуливаться в садах, любоваться розами, голубым небом, дышать чистым воздухом?.. Но когда величие природы коснулось моего сердца… когда, словно свиток, раскрылись предо мной небеса[277], и все краски земли, и все, что на ней, и язык творенья, которого я не знал, стал мне внятен, тогда природа вовремя открылась мне в прекрасных виленских окрестностях… дух мой прорвался тяжелой волной, словно сдерживаемые воды излились бурными потоками, и новые чувства — красоты — заполнили душу… В сердце своем я почувствовал любовь и райское блаженство, слушая голос соловья по вечерам. Все это я нашел в Вильне. Природа говорила мне там ясным языком, потому что любимые и верные друзья были со мной, там видел я и чувствовал и красоту, и святость, и любовь» (192–193). Очевидно, сам город побуждал «изучать» его природу, как и архитектуру (немало примеров тому в разных виленских культурах). Эти одинокие (или изредка с другом) прогулки по «виленским горам», в отличие от излюбленных студентами-филоматами маевок, в основном были лишены веселого полудетского озорства последних, в них больше созерцательности; однако размышления, серьезные беседы, поэзия, которым они посвящались, все же сближают их. Такие прогулки становились определенным видом культурного поведения, формировавшегося отчасти под влиянием литературы, отчасти, по-видимому, инспирировавшегося самим городом как местом освоения нового жизненного и культурного материала.