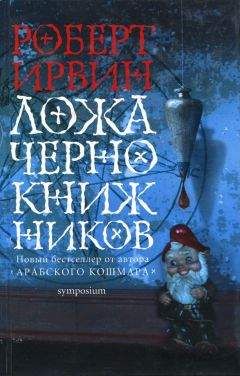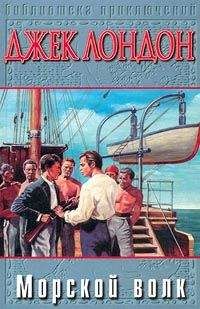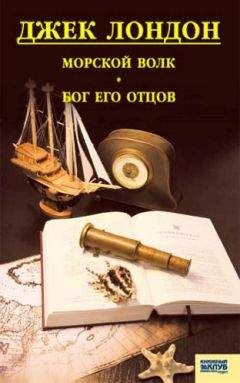Роберт Робинсон - Чёрный о красных: 44 года в Советском Союзе
В термическом цеху было не только тепло, но и светло, и я стал приносить с собой книгу или учебник. С середины 1942 года в домах пользовались только 40-свечовыми лампочками, и при таком освещении невозможно было долго читать, не испортив зрения.
Много раз во время войны начальник цеха просил меня выйти на работу после занятий. За сверхурочную — свыше двенадцати часов — работу обычно платили и выдавали дополнительный паек (двести граммов черного хлеба, двадцать пять граммов мяса, вареную картофелину, пять граммов подсолнечного или сливочного масла). Однако мне за всю мою сверхурочную работу ни разу не предложили никакой компенсации. Сам же я ничего не просил, потому что не хотел вызвать раздражения начальства, в чьих глазах, несмотря на советский паспорт, я всегда оставался иностранцем. Мне приходилось обдумывать каждый свой шаг. Я легко мог представить заголовок в заводской газете: «Робинсон отказывается нам помогать. Требует двойную оплату и дополнительную продуктовую карточку». Одного такого заголовка было бы достаточно, чтобы отправить меня на фронт или в лагерь. С другими ведь подобное случалось!
Весной 1944 года завод получил срочный заказ из совнаркома на производство пневматических отбойных молотков, которые предназначались для добычи угля где-то неподалеку от Москвы. Чтобы выполнить заказ, необходимо было работать двадцать четыре часа в сутки. Пики для молотков в моем цеху точили на всех станках. Когда начальник цеха попросил меня поработать ночью после занятий, я, разумеется, не мог отказаться. Я работал одиннадцать часов, с раннего утра почти до шести вечера, потом на двух трамваях, с пересадкой, ехал в институт к 18:50. Занятия заканчивались в 21:45, и я шел в темноте девять с лишним километров на завод. Проработав до 4:30 утра, валился с ног от усталости. Шел в термический цех и, проспав час, вставал, завтракал черным хлебом, припасенным в кармане, умывался и снова шел работать.
Наконец, в 1944 году комендантский час отменили, и с наступлением весны дорога из института перестала представлять собой тяжелейшее испытание. Однажды теплым июньским вечером мы вместе с моим другом Лившицем (мы оба тогда уже заканчивали последний курс) ехали на трамвае в институт. Трамвай еле полз, и мы решили, что будет быстрее дойти до института пешком.
Мы спрыгнули на ходу и, умудрившись не попасть под машину, перебежали дорогу. Неподалеку стоял милиционер-регулировщик, но нам показалось, что он нас не заметил. Надо было торопиться, чтобы не опоздать на занятия, и мы припустили, не обратив внимания на милицейский свисток. Примерно в одном квартале от университета мы увидели, что за нами несутся двое мужчин. Мы остановились, и они со всего разбегу налетели на нас. Опешив от неожиданности, мы попросили их объяснить, в чем дело.
Один из них указал в сторону подходившего милиционера: «Сейчас с вами разберутся».
В Советском Союзе существует закон, по которому каждый гражданин обязан помогать милиции в задержании нарушителя. В противном случае вас могут оштрафовать или отправить на несколько дней в тюрьму. Поэтому-то двое незнакомцев крепко держали нас до тех пор, пока не подбежал запыхавшийся милиционер. «Граждане, предъявите ваши документы», — обратился он к нам.
Меня охватил страх. Пошарил в карманах: пусто! Хотя я был совершенно уверен, что оставил документы дома, но, чтобы угодить милиционеру, заглянул и в портфель. Лившиц был в том же положении.
Я подумал, как глупо с моей стороны в очередной раз забыть документы, — и это после всего, что со мной уже было.
Напомнив нам, что по закону нельзя выходить на улицу без документов, милиционер сказал: «Вы арестованы».
Мы с Лившицем обменялись взглядами, чувствуя себя полными дураками. Я был зол на милиционера, который не поленился броситься за нами из-за мелкого нарушения правил уличного движения. Потом, по дороге в милицию, я подумал, что выглядели мы с Лившицем, вероятно, довольно подозрительно, когда, размахивая своими черными портфелями, перебегали улицу. Бледный, в больших черных очках, совершенно лысый, но с окладистой черной бородой, Лившиц и рядом с ним я — чернокожий с копной черных волос. Как только мы вошли в отделение милиции, арестованные правонарушители, ожидавшие там решения своей участи, при виде нас, как по команде, замолчали. Наверное, они никогда в жизни не видели более странной пары homo sapiens, чем мы с Лившицем. Да и сидевший за столом начальник отделения уставился на нас с изумлением.
Арестовавший нас милиционер доложил ситуацию. Лившиц в отчаянии протянул начальнику студенческий билет.
Даже не взглянув на него, начальник проронил: «Это не документ». Потом вызвал одного из своих подчиненных и приказал: «Уведите этого гражданина и разберитесь с ним».
Когда Лившица уводили, он обернулся и посмотрел на меня: в глазах его была мольба о помощи.
Я остался сидеть напротив начальника. Каждый раз, поднимая глаза, я ловил на себе его взгляд: он с нескрываемым любопытством рассматривал мои волосы. И каждый раз, когда мы встречались взглядами, он краснел, начинал изучать бумаги, лежащие перед ним, или делал вид, что смахивает со стола то ли пылинки, то ли крошки.
Внезапно раздался страшный, пронзительный крик. Я узнал голос Лившица и вопросительно посмотрел на начальника: тот сидел с невозмутимым видом. И снова крик. Я закрыл глаза и стиснул зубы. Через пятнадцать минут в комнату ввели всхлипывающего Лившица. Милиционер отдал честь начальнику и отчеканил: «Все в порядке».
Мы стояли рядом, лицом к начальнику. Лившиц плакал от боли.
Начальник строго посмотрел на нас и сказал: «Советую вам обоим всегда иметь при себе документы. Это избавит вас в будущем от арестов и неприятностей». Лицо его сморщила самодовольная улыбка и он добавил: «Можете идти. Вы свободны».
На улице Лившиц разрыдался. Что я мог сказать? Обнял его за плечи и так, молча, мы дошли до института. Возле дверей мы остановились. Он посмотрел на меня глазами, полными боли, и попросил никому никогда не рассказывать о случившемся. Я поклялся молчать. В тот день занятия прошли, как во сне. Я не мог забыть глаза Лившица, полные страха, беспомощности и мольбы, когда его уводили по коридору на допрос, его слез, когда его привели обратно.
Как только занятия закончились, я побежал искать моего друга. Он стоял в окружении студентов из своей группы, которые уговаривали его пойти куда-то вместе с ними. При виде меня он явно обрадовался: у него появился повод отколоться от компании сокурсников. Вместе мы вышли из института и молча пошли по улице мимо трамвайной остановки. Я чувствовал, что он переживает, и долго не решался прервать молчание. И все же я не мог не спросить его, что же произошло.
Лившиц долго молчал, а потом стал рассказывать: «По коридору мы дошли до кабинета, дверь в который была приоткрыта. Оттуда вышел еще один милиционер, и вдвоем они довели меня до дальней комнаты, запертой на замок. Второй милиционер отпер замок, и мы вошли. Комната была маленькая. Со стен свисали веревки и ремни. В углу была высокая стойка с крюками. Мне приказали раздеться до пояса, и один из милиционеров снял со стены два ремня. Я решил, что они меня собираются пороть, и страшно испугался. Ремнями они притянули меня к стойке и заставили поднять голову, после чего схватили за бороду и принялись дергать. Но это было не все. Упершись ногой в стену, милиционер рванул меня за бороду. Я закричал. Они проделали со мной это еще несколько раз. Потом на бороду надели какую-то штуковину. Боль была нестерпимая, и я кричал и кричал, пока не потерял сознание.
Очнулся я на полу: милиционеры обтирали мне лицо тряпкой, смоченной холодной водой. Наконец, они меня усадили. Оказалось, что пока я лежал без сознания, они позвонили на завод, где подтвердили все, что я им о себе сообщил. Милиционер извинился — дескать, за годы войны они задержали множество шпионов с фальшивыми бородами и усами, а то и в париках. А мы выглядели так странно, что им, якобы, ничего не оставалось, как проверить, настоящая ли у меня борода».
В июле 1944 года — вскоре после этого скверного случая и после семи лет учебы в вечернем институте — настал день выпускного экзамена. Я сидел перед комиссией из семи профессоров. Четверо из них были из нашего института, а трое — из Наркомата просвещения. Все вопросы касались моего дипломного проекта. Меня удивило тогда, что каждый из экзаменаторов задал всего по три вопроса. Я с легкостью на них ответил, после чего вышел в коридор и стал ждать. В своем решении комиссия учитывает все оценки, полученные студентом за время обучения, а также дипломный проект и его защиту. В России пятнадцатиминутное ожидание — это ничто, но мне каждая минута казалась часом. Этот экзамен был последним, что меня отделяло от диплома.
Наконец, меня пригласили войти. От волнения я не мог сесть. Никто из экзаменаторов не улыбался.