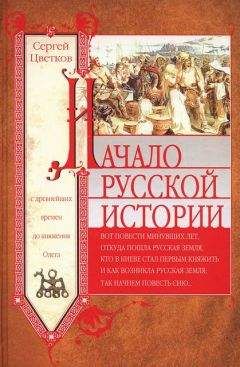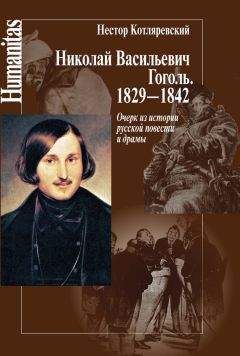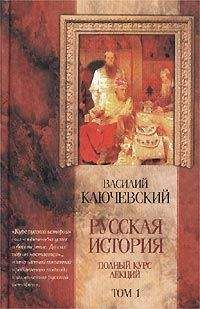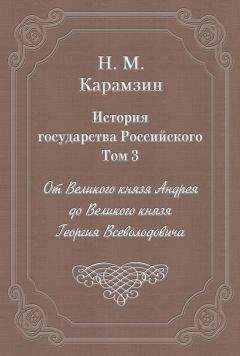Иосиф Кулишер - История русской торговли и промышленности
Точно так же подтверждается и указание на крайне мелкие размеры этих лавок. Типичной лавкой являлось помещение в 2 сажени в ширину, 21/2 в глубину. И это была полная лавка{271}. А наряду с ними имелись полулавки, четверти лавки и даже восьмые части лавок. В 1726 г. в московском Китай-городе из 827 всех торговых владений было всего 307 владельцев полных лавок, тогда как в 76 случаях они занимали менее целой лавки, именно от 7/8 до 3/4 лавки, а в 3428 случаях торговое место составляло всего пол-лавки, в 27 — от 1/2 до 1/4 лавки. Напротив, соединение нескольких лавок в одних руках (или, быть может, одной лавки, но по своим размерам равной нескольким установленной величины) было явлением весьма редким: насчитывается всего 32 случая владения по 11/2 лавки и 15 случаев свыше 21/2 лавки, из них только один, когда торговец занимал 33/4 лавки. Даже в отдельном месте он имел по поллавки, по четверти и даже по одной восьмой. В 1701 г. 189 человек владело по одной лавке, тогда как 242 занимали всего пол-лавки, а 77 человек 3/4 лавки. А к этому присоединялось еще великое множество торговых мест, которые вообще не имели характера лавки, а представляли собой лишь временные, переносимые помещения. Таких мест насчитывалось в Китай-городе в 1626 г. 680, из них 47 шалашей, 267 скамей и мест скамейных, причем и тут нередко торговец занимал по л шалаша, часть скамейного места{272}.
Небольших размеров были, конечно, лавки и в других городах. Как указывает Н. Д. Чечулин, «по-видимому, в то время (в XVI ст.) признавалась нормальной величина лавки в 2 сажени: при описании лавок жалованных очень часто отмечается их величина — обыкновенно на локоть или полусажень больше двух сажен, и тогда говорится: а с прибавки (с локтя или с полусажени) и платити ему (владельцу лавки) десять денег»{273}. В Туле, судя по писцовой книге 1625 г., лавка представляла собой клочок земли в ширину и в длину по 13/4 — 21/2 сажени. В 1622 г. велено с казенных кирпичников не брать «полавочно-го» и пошлин «с их товару, которого товару меньше двух рублев». Действительно, такие случаи были. В 1625 г. на тульском рынке оказалось 9 таких лавок, с которых оброка «по жалованной государевой грамоте не бралось»{274}.
«Очень часты случаи, — говорит Н. Д. Чечулин, — что человеку принадлежала 1/2, 1/3 и даже 1/4 лавки или амбара; обыкновенно при этом лавки делились поровну между совладельцами, но встречаем несколько случаев, что одному владельцу принадлежало 2/3 или 3/4 а другому 1/3 или 1/4». И во внутренних городах между отдельными владельцами лавки распределялись обычно довольно равномерно; «редко кто владел более чем 3 лавками, за исключением, впрочем, таких торговых городов, как Казань и Псков, где иные имели лавок 10 и более и платили раз в 10—15 больше, чем в среднем каждый из участвовавших в торговле людей». Но таких людей и тут было весьма немного. Из 765 человек посадских тяглых людей, плативших оброк за лавки во Пскове, 326 человек платили от 1 до 5 алтын, 245 от 5 до 10 и 93 от 10 до 15. Это составит 664 человека или почти 90% всех плательщиков. Свыше 25 алтын платили всего 29 человек или менее 4% общего числа. В Казани имелась небольшая группа в 22 человека, переведенных из других городов, которые, составляя всего 1% населения Казани, имели почти 15% торговых заведений, и каждый из них платил почти втрое больше, чем человек «добрый» или «лучший»{275}. Напротив, в Туле из 100 случаев владения торговыми помещениями 93 (352 случая) приходятся на владение одной лавкой или скамьей; всего 3% (11 случаев) владели двумя помещения ми, большего числа вообще не встречалось{276}.
Зомбарт утверждает, что западноевропейские города в XIV —XV ст. кишели массой мелких и мельчайших торговцев, производивших крайне незначительные обороты{277}. Это утверждение оказалось преувеличенным; установлены факты довольно больших оборотов, совершаемых в средневековую эпоху{278}. В отношении Московского государства у нас нет данных об оборотах[19], но, судя по большему количеству маленьких лавочек, полулавок и четвертей лавок, в которых сосредоточивалась торговля в русских городах того времени, мы можем это положение Зомбарта с гораздо большим правом применить именно к Московской Руси XVI —XVII ст. Никто не станет отрицать, конечно, наличности крупных торговцев, в особенности среди московских гостей, но, по-видимому, преобладающей являлась торговля весьма мелких размеров. Сравнения, проводимые Поссевином и Кильбургером между Москвой, с одной стороны, и Венецией или Амстердамом — с другой, весьма характерны: указания на то, что из одной амстердамской лавки можно сделать десять и более московских или что один венецианский магазин имел больше товаров, чем целый торговый ряд в Москве, свидетельствуют о том, насколько велико было расстояние между нашей и западноевропейской торговлей.
Кильбургер приводит факт обилия лавок в Москве в доказательство того, что в Московском государстве население «от самого знатного до самого простого любит купечество», что «русские любят торговлю»{279}. На это указывает и де Родес в своих «Размышлениях о русской торговле 1653 г».. «Все постановления этой страны, — говорит он по поводу Московии, — направлены на коммерцию и торги, как это достаточно показывает ежедневный опыт, потому что всякий, даже от самого высшего до самого низшего, занимается и думает только о том, как бы он мог то тут, то там выискать и получить некоторую прибыль»{280}.
Из этой любви русских людей к торговле, как и из многочисленности лавок, сделали вывод о широком развитии торговли Московского государства. Однако, как справедливо указывает Г. В. Плеханов, эти сообщаемые иностранцами свойства русских еще ровно ничего не доказывают: многочисленностью торговцев и сильно развитым интересом к торговле отличаются и китайцы, но едва ли кто-нибудь станет утверждать, что их торговля обнаруживает крупные успехи{281}. И у различных нецивилизованных народов мы находим большую склонность к торговле: негры, например, страшно любят торговать. Благодаря торговым сношениям с европейцами первобытные народы быстро учатся торговать, и европейцы удивляются тому, с какой скоростью они усваивают всевозможные приемы и уловки, свойственные опытному европейскому торговцу, в том числе и способность обвешивать, уверять в высоком качестве малоценных товаров и вообще совершать всевозможные обманы. Те самые народы Океании, которые еще в конце XVIII ст. при появлении Кука во многих случаях не имели никакого представления об обмене, сорок лет спустя уже оказались умелыми торговцами. Когда в 1814 г. явились испанские миссионеры в Новую Зеландию, они были поражены тем умением и той расчетливостью, с которой туземцы производили обмен товаров, как они расхваливали свои продукты и старались извлечь как можно больше выгоды из каждой операции. Стэнли с удивлением рассказывает о том, что туземцы в Маниема (в Центральной Африке) имеют столь же преувеличенное представление о ценности своих товаров, как и лавочники Лондона, Парижа и Нью-Йорка.
По-видимому, подобная эволюция совершилась и в хозяйственной психике населения Московского государства, главным образом под влиянием сношений с иностранцами. И здесь появилась сильная любовь к торговле, жажда продавать и покупать. При этом обнаружились те же качества, которыми характеризуются современные неевропейские народы, — «хитрости и лукавства», запрашиванья, обманы. Русским приходилось, впрочем, противопоставлять это столь же бесцеремонным действиям иностранцев, презиравших восточных варваров и смотревших на Россию как на наиболее выгодное для скорой наживы место».Их смышленость и хитрость, — рассказывает Адам Олеарий о своем путешествии в Московию, Тартарию и Персию, совершенном в 1634 и 1636 гг., — наряду с другими поступками особенно выделяется в куплях и продажах, так как они выдумывают всякие хитрости и лукавства, чтобы обмануть своего ближнего»{282}. «Купцы, — читаем у барона Майерберга в его донесении императору Леопольду I 1661 г., — подкрепляют свои обманы ложной божбой и клятвой при торговых сделках; эти люди такой шаткой честности, что если торг не тотчас же окончен отдачею вещи и уплатой цены за нее, то они легкомысленно разрывают его, если представится откуда-нибудь барыш позначительнее»{283}. Иоанн Георг Корб, секретарь посольства императора Леопольда I к царю Петру I в 1698 — 1699 гг., заявляет, что «так как москвитяне лишены всяких хороших правил, то, по их мнению, обман служит доказательством большого ума. Лжи, обнаруженного плутовства они вовсе не стыдятся. До такой степени чужды этой стране семена истинной добродетели, что самый даже порок славится у них как достоинство». Впрочем, прибавляет Корб, он не желает распространять этой характеристики на всех: «Между толиким количеством негодной травы растут также и полезные растения, и между этим излишеством вонючего луку алеют розы с прекрасным запахом»{284}. «Русские купцы по большей части от природы так ловко в торговле приучены к всяким выгодам, к скверным хитростям и проказам, что и умнейшие заграничные торговцы часто бывают ими обманываемы»{285}. «Что касается до верности слову, — говорит Флетчер, — то русские большей частью считают его нипочем, как скоро могут что-нибудь выиграть обманом и нарушить данное обещание». Это «вполне известно тем, которые имели с ними более дела по торговле»{286}. В «Записках о Московии бар. Герберштейна» 1556 г. дается следующая характеристика русской торговли: «Торгуют они с большими обманами и хитростями и не скоро кончают торг… Ибо, приценяясь к какой-нибудь вещи, они дают за нее меньше половины, чтобы обмануть продавца, и не только держат купцов в неизвестности по месяцу или по два, но иногда доводят их до совершенного отчаяния». «Как только они начинают клясться и божиться, — говорит Герберштейн далее, — знай, что тут скрывается хитрость, ибо они клянутся с намерением провести и обмануть»{287}.