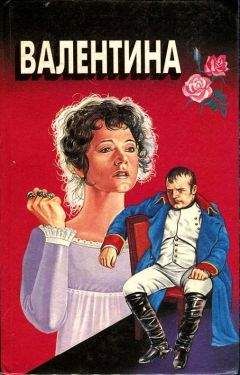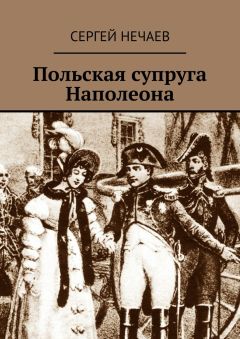Андрей Смирнов - Империя Наполеона III
Бывший военный Жан-Батист Дюлиньи был не одинок в своем мнении, когда в письме принцу выразил свою позицию в следующих словах: «Ввиду стабильности власти, мира в обществе, безопасности в сделках и сохранения прав народа, свободный в выборе, я тысячу раз говорю «да». И если я сформулировал свой выбор таким образом, и если я об этом Вам говорю, то не потому, что горжусь тем, что выполнил долг истинного бонапартиста, а из желания установления спокойствия в стране, чтобы покончить с клеветой на принца и его правительство, чтобы навсегда покончить с происками врагов…»{306}
Как утверждается в письме из округа Кастелнандари департамента Об, успех голосования превзошел успех выборов от 10 декабря 1848 года, но, как «показали выборы, — писал г-н Дорье, — демагогическая партия (имеются в виду социалисты. — Прим. авт.) нашего маленького городка выступила против президента; легитимисты же большей частью воздержались, но не исключено, что и они голосовали против, так как накануне голосования относились к принцу враждебно и вели пропаганду в этом духе среди своих людей»{307}.
Масштаб репрессий и жесткая позиция властей по объективным причинам привели к ослаблению народной поддержки принца в провинциях. Страх, который нагнали власти на местах, на время парализовал всяческую политическую активность сочувствующих принцу-президенту и бонапартистов по убеждению. Но не из страха провинции голосовали за Луи-Наполеона — свидетельством этому является массовая поддержка принца населением страны: 76% избирателей проголосовали утвердительно и, следовательно, одобрили государственный переворот. Плебисцит 21 и 22 декабря показал силу наполеоновской легенды, но если в 1848 году голосовали за имя, то 21 декабря 1851 года голосовали за человека, носящего это имя. После выборов крестьяне Бретани — оплота роялизма — распевали:
Голос Бонапарта наконец услышан…
В восьмимиллионном эхе он раскатился,
Он приобрел в народе силу и сердце
И подготовил для всех жизнь и счастье!
О! Луи-Наполеон, посланец Небесного Господина!
Сохраните эту власть, которую народ вам дает{308}.
Таким образом, если переворот и был в глазах оппозиции преступлением, а принц преступником, то тогда вся Франция была заговорщицей, одобрив его семью с половиной миллионами голосов во время плебисцита. Позднее Эмиль Оливье писал: «Что сделал президент? Уничтожил республику? Нет. Установил империю? Нет. Покушался на народный суверенитет? Нет. Он сохранил республику, не имея в виду установления империи. Он восстановил во всей целостности национальный суверенитет. Он предложил решение и его не навязывал: он обратился за советом к народу»{309}.
В январе 1852 года вступила в действие новая конституция, о которой сам Луи-Наполеон говорил следующее: «…я не имею претензии, широко распространенной в наше время, подменять опыт веков личной теорией. Напротив, я искал в прошлом примеры, изучал людей, которые их подали, и к каким результатам они привели… Одним словом, я сказал себе: поскольку Франция в течение последних пятидесяти лет двигалась в направлении усиления административной, военной, юридической, религиозной, финансовой организации от консульства и империи, почему нам не вернуться к политическим институтам этой эпохи? Созданные при помощи той же идеи, они должны нести в себе характер национальный и сочетать его с практической необходимостью»{310}. Создание исполнительной власти, сконцентрированной в одном человеке, привело к ослаблению законодательной власти. Таким образом, министры зависели от одной лишь исполнительной власти, и Сенат, созданный конституцией, состоял из людей, назначаемых императором. Что касается законодательного органа, то он был сперва подчинен Государственному совету, который готовил проекты законов и обладал крайне ограниченными возможностями, ибо министры не имели никакого контакта с законодателями{311}.
По новой конституции Луи-Наполеон осуществлял верховную власть и одновременно сам нес всю ответственность, что было зафиксировано в пятой статье конституции: «Президент Республики ответствен перед французским народом, к которому он имеет право обратиться в любой момент». Это положение было краеугольным камнем конституции и режима, поскольку и до, и после своего избрания президентом Луи-Наполеон неоднократно подчеркивал, что только сам народ может решать свою судьбу и что только он один является верховным сувереном. Так, еще до переворота в послании из Марселя говорилось, что «доверие со стороны общественного мнения, чему я имею немало доказательств, к Вам полное. Я попросил бы Вас, принц, действовать в том же духе для успокоения общественного мнения и с твердой уверенностью использовать вашу власть во благо страны и главы государства, который ей дал возможность свободно выражать свою национальную волю»{312}.
Именно в восстановлении связи между народным суверенитетом и исполнительной властью в лице президента заключалась сила бонапартизма. Еще во время работы комитета по ревизии конституции 18 июля 1851 года Барро, Токвиль и Монталамбер пришли к выводу, что «нельзя противостоять партиям, которые становятся частью самой страны»{313}. Они были шокированы переворотом, но не решились на сопротивление неконституционному переизбранию. Лябуалэ{314}, обратясь к работам Руссо и Сиейеса, напомнил, что народный суверенитет находится в общности всех граждан и что нация имеет неотъемлемое право пересмотра конституции, когда и как она пожелает, по примеру Америки. Можно попытаться организовать голосование, но никто не может навязать народу главу исполнительной власти. Токвиль, неизменно оставаясь либералом, выступал как против народной революции, так и против последовавшего за ней авторитарного бонапартистского режима. Утомленный болезнью и уставший от политики, он отказался служить авторитарной Империи. «Зрелище этой страны меня угнетает», — читаем мы в его «Воспоминаниях»{315}. По мнению видного французского историка Франсуа Фюре, Токвиль подводит парадоксальный итог революции: всемогущее государство, построенное на равенстве граждан и рабстве общества. С позиции такого государства Наполеон III понял, что его имя позволяет ему захватить легитимность против закона и заменить власть богатства социальным вопросом. Одним словом, Наполеон III приобрел в государстве, созданном еще его дядей, инструмент для господства в обществе{316}. Таким образом, Луи-Наполеон, оказавшись у власти, использовал все наследство национальной истории, связав идею единого и неделимого народного суверенитета с необходимой централизацией.
29 марта 1852 года, избранный президентом на десять лет, Луи-Наполеон, открывая сессию Сената и Законодательного собрания, сказал: «Диктатура, которую народ мне доверил, закончилась сегодня. Дела принимают свой обычный ход». В своей речи он указывал, что в настоящий момент титул императора его не интересует, но он уверен, что народ в случае необходимости поддержит инициативу президента: «…я не буду менять существующий порядок, если только меня не вынудят на этот шаг обстоятельства. Какие обстоятельства? Единственно поведение партий. Если они смирятся, то ничто не изменится. Но если, плетя тайные интриги, они постараются подорвать основы моего управления; если в своем ослеплении они будут отрицать легитимность результатов плебисцита; если, наконец, своими атаками на существующий строй они поставят под вопрос будущность страны, тогда и только тогда будут достаточные причины просить у народа, во имя обеспечения покоя Франции, нового титула…»{317} Президент ясно предостерег всех, кто хотел бы сменить режим, то есть орлеанистов и легитимистов, вынашивавших планы реставрации.
На все обвинения в желании установить империю принц-президент уверенно возражал, говоря, что если бы установление империи было его главной целью, то ничто бы не помешало ему этого сделать ни в 1848 году после президентских выборов, ни 13 июня 1849 года, ни 2 декабря 1851 года. Однако из-за опасения беспорядков и нового обострения ситуации в стране в целом он не пошел на это, довольствуясь имеющимся постом президента{318}.
Во времена Июльской монархии политика была уделом узкого круга богатейших людей страны. После введения всеобщего избирательного права массы были вовлечены в политическую жизнь страны, и режиму приходилось с этим считаться. Самые прозорливые из современников тут же поняли, что новый режим оказался в очень деликатном положении, поскольку должен был опираться на консервативные элементы и народные массы одновременно. Так, Прево-Парадол в письме от 10 декабря 1851 года писал, что Луи-Наполеон не смог бы постоянно пользоваться этой двойной поддержкой и бесконечно примирять «труд и капитал. Он не мог освободить от работы бедных, не уничтожив богатых. Он не сможет быть одновременно Тьером и Прудоном»{319}. И сам принц-президент понимал необходимость решить эту проблему, когда в ноябре 1852 года он писал своему двоюродному брату принцу Жерому: «Когда носишь наше имя и когда находишься во главе правительства, необходимо сделать две вещи: удовлетворить интересы самых многочисленных классов и привлечь благородные классы»{320}.