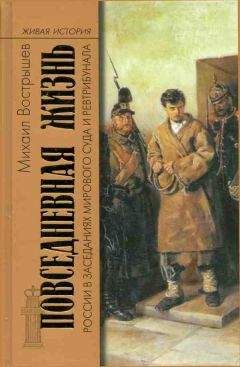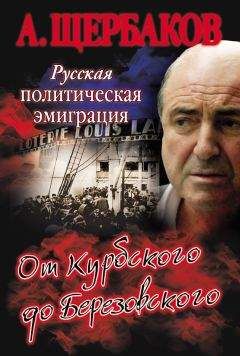Алексей Зверев - Повседневная жизнь русского литературного Парижа. 1920–1940
Шаховская вспоминает вечера Цветаевой, на которые приходили только ее истинные ценители. «Она в скромном, затрапезном платье, с жидковатой челкой на лбу, волосы неопределенного цвета, блондинистые, пепельные с проседью, бледное лицо, слегка желтоватое. Серебряные браслеты и перстни на рабочих руках. Глаза… смотрят вперед, как глаза ночной птицы, ослепленной светом… Читает свои стихи громко, скандируя слова, подчеркивая ударенья, как бы бросая вызов кому-то и нисколько не заботясь о том впечатлении, которое она производит. Я не встречала никого из выступавших перед публикой, более свободного от желания понравиться».
Платья перешивались из старья, которое присылали знакомые. А руки давно загрубели от сковородок, утюгов, помойных ведер. Шаховской она пишет летом 1936-го: «Все — моими руками! Я — целые дни стираю и штопаю — но это во мне немецкая механика долга, а душа — свободна и ни о чем этом не знает: еще не пришила ни одной пуговицы!» Быт порабощал, но ему не подчинялось Бытие.
Этого были не в состоянии понять многие, даже среди настоящих друзей Цветаевой. В их свидетельствах постоянно возникает одна и та же гнетущая картина: захламленные, грязные комнаты, повсюду окурки, неряшливость, запущенность, жидкий, невкусный чай, который хозяйка разливает на столе, отодвинув какие-то пыльные газеты, — ей и в голову не придет заняться своими черными от сажи ногтями. Цветаеву особенно огорчило бы тайное недоброжелательство людей, которое они в себе копили годами, как было с дочерью о. Сергия Марией (Муной), в свое время помогавшей при рождении Мура и в Кламаре жившей рядом, после развода с Константином Родзевичем, ближайшим из друзей Сергея Эфрона, героем «Поэмы горы» и «Поэмы конца» — двух пронзительных лирических повестей о любви. Через много лет В. Лосская, которая принялась опрашивать знавших Цветаеву в жизни, услышала от Муны вот что: «Она хамила всем… Изменяла мужу… Была несправедлива к дочери… У нее вообще был неистовый характер… Можно сказать, что в человеческих отношениях она была груба, игнорировала элементарные правила человеческого обхождения». Вряд ли тут говорит только застарелая ревность. Скорее все дело в том, что слово «поэт» оставалось для Муны отвлеченностью, как и для большинства других.
И поэтому они замечали одну лишь внешнюю сторону существования семьи Эфронов, мало задумываясь о том, что, вопреки всем невзгодам, творческая жизнь Цветаевой осталась такой же интенсивной, как прежде. Повседневность и правда была ужасной. Безденежье преследовало так жестоко, что вспоминались описания трущоб и работных домов из «Давида Копперфильда», книги, которую Цветаева обожала в детстве. Письма полны мольбами о спасении в абсолютно безвыходных ситуациях, когда приходили описывать мебель, а владелец дома не шутя угрожал выставить неплательщиков прямо на улицу. Поклонника, юного поэта Николая Гронского (вскоре он нелепо погибнет, став жертвой несчастного случая в метро, и Цветаева посвятит ему пространный некролог — статью о его поэме «Белладонна»), она просит зайти после завтрака починить текущий кран, предупреждая: «Завтракать не зову, ибо обнищали». Весь ее гардероб — фуфайки и льняное платье цвета зебры. Туфли истоптаны так, что сваливаются с ног. Федотовы приглашают к себе на вечер, но приходится вернуться с дороги: отвалилась подметка, другой пары обуви в доме нет. В Париж иной раз Эфроны вынуждены ходить пешком: не находится нескольких франков на электричку.
«Меня все, все считают „поэтичной“, „непрактичной“, в быту — дурой, душевно же — тираном, а окружающих — жертвами, не видя, что я из чужой грязи не вылезаю, что на коленях (физически, в неизбывной луже стирки и посуды) служу — неизвестно чему!» Это фраза из письма Вере Буниной, апрель 1934 года. Сотни похожих отыщутся в письмах Цветаевой за все парижские годы.
Ужасно удручало однообразие прогулок — все тот же надоевший парк («заплеванный, сардиночный, в битом бутылочном стекле»), все те же рельсы, вдоль которых тянется исхоженная тропинка. Ванв, Кламар, Исси-ле-Мулино в ту пору соединялись медонским лесом, окружавшим город с юго-запада, но не для Цветаевой были эти задыхающиеся от копоти деревья, эти поляны, вытоптанные обывателями, которые ездили сюда попировать в воскресенье.
Обеды состояли из отваренной мелкой картошки с несвежей зеленью и куска конины — другое мясо было слишком дорого. Ни масла, ни сладкого, разве что на Пасху. Зима добавляла забот: надо было успеть, пока продавали брикеты из скверного угля, английский кокс оказывался не по карману.
Но больше всего Цветаева страдала от толчеи в тесных квартирах, от невозможности полноценно работать, проведя весь день у газовой плиты, у раковины, у постели постоянно болевшего Мура. «Слишком много черной работы и людей», — фраза из письма Тесковой (Медон, весна 1927 года) повторяется в ее переписке как рефрен. Вот она пишет другому адресату в феврале 1934-го: «Время одно, и его катастрофически — мало: проводив Мура в 8 1/2 ч. — у меня моего времени только 2 часа — на уборку, топку, варку и писанье. Вы понимаете, как всё это делается (по молниеносности и плохости!). Потом — повести его подышать, потом завтрак, потом посуда, потом опять в школу, и опять из школы, и поить его чаем, и т. д., а вечером — голова не та и слова не те».
Из этого быта — посреди его, наперекор ему — рождались стихи и поэмы, где талант Цветаевой раскрылся в своей безмерности.
Такие, как «Поэма Лестницы», напечатанная в 1926-м.
* * *«Обожаю лестницу: идею и вещь, обожаю постепенность превозможения», — через семь лет после поэмы написала Цветаева Вере Буниной, жене нелюбимого ею писателя, человеку, к которому она рванулась с открытой душой, как только выяснилось, что когда-то гимназистка Вера Муромцева бывала в доме у Старого Пимена, родном цветаевском гнезде, и что они обе принадлежат к одному московскому кругу, «трехпрудному» (по названию переулка), «Иловайскому» (по фамилии деда Марины).
Лестница на верхний этаж дома Колбасиной-Черновой, рю Руве 8, где Цветаева провела свою первую парижскую зиму, подсказала сюжет этой повести, как первоначально называлась поэтическая хроника будней окраины, которая с такой жестокой прямотой напоминала о вяжущей, унизительной атмосфере убогого быта и обостряла чувство, что душа — цветаевская душа — не покорится ему никогда.
Короткая ласка На лестнице тряской.
Короткая краска Лица под замазкой.
Короткая — сказка:
Ни завтра, ни здравствуй.
Короткая схватка На лестнице шаткой,
На лестнице падкой.
В доме, где по ночам не спят,
Каждая лестница водопад —
В ад…
Поэтический ландшафт поэмы — эти заплеванные ступеньки и сорные ящики, ведущий на чердак черный ход, где воняет чесноком и газом, и «двор — горстка выбоин, двор — год не выметен», и бездомные кошки в закутках, и дети, играющие спичками. Тогда Цветаева еще не знала, каким привычным станет ей этот ландшафт в ближайшие без малого четырнадцать лет. Но свое будущее она предчувствовала безошибочно и совершенно точно знала, что ей не по пути с обитателями бельэтажа:
Стихотворец, бомбист, апаш —
Враг один у нас: бель-этаж, —
что уготовано ей родство с населяющими подвалы и мансарды, с нищенствующими, с отчаявшимися:
Вещи бедных. Разве рогожа —
Вещь? И вещь — эта доска?
Вещи бедных — кости да кожа,
Вовсе — мяса, только тоска.
Через три года она напишет большой очерк о художнице Наталье Гончаровой, которая сделала иллюстрации к поэме «Молодец». И в этом очерке будет несколько строк о лестницах: «Площадка за площадкой, на каждой провал — окно. Стекол нет и не было. Для выскока… Лестница, по которой много хожено, — гляденье и хожденье по следам всех тех до меня, мой след (взгляд) — последний, я крайняя точка этой поверхности, ее последний слой».
Однако родство не означало тождества. На лестнице Цветаева остается самой собой — не человеком массы, а поэтом, у которого свой, неслиянный с другими взгляд на мир. Сохраняется черта, отделяющая ее и от бомбистов, и от апашей, и от люмпенов с их одной-единственной мыслью: «Есть нужно нынче… Дать нужно нынче». Вещи бедных могли для нее стать своими вещами, только когда эти вещи «попросту — души, оттого так чисто горят».
Черная лестница, изо дня в день повторяющийся ритм существования на грани катастрофы, в изнурительной борьбе за то, чтобы выжить, уже не задумываясь ни о чем другом, — это не ее мир и не ее круг. С понятием круга, каким бы он ни был, она всегда ощущала непреодолимое внутреннее разногласие, написав об этом Тесковой: «Мой круг — круг вселенной (души: то же) и круг человека, его человеческого одиночества, отъединения… Среди людей какого бы то ни было круга я не в цене: разбиваю, сжимаюсь».