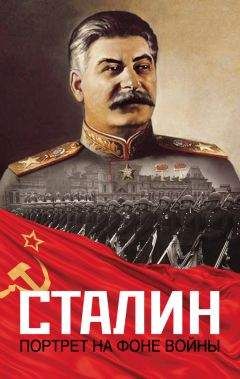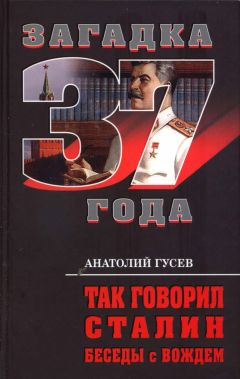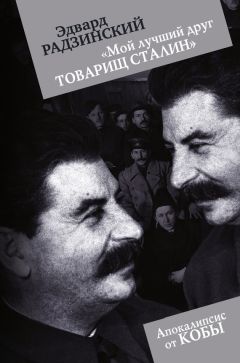Всеволод Иванов - Александр Пушкин и его время
Гостя Пушкин встретил с неожиданным для себя удовольствием. Липранди, широкоплечий, немного сутулый, опять стал у двери по-военному, с опущенной почтительно головой, фуражка и перчатки в левой руке.
Огня еще не зажигали, отчего гость казался еще смуглее, глаза, как черные пятна. Разговор, как обычно, отчетлив и ясен.
— Последние новости? — переспросил Иван Петрович. — Все те же. Царь и Меттерних душат революцию. Уже не стесняясь. Что же! Священный Союз есть Священный Союз. Конгресс в Лайбахе постановил — принять решительные меры.
Липранди помотал головой, ослабил жесткий воротник и продолжал:
— А меры вот какие-с. Австрийцы шлют войска в Неаполь… Шлют и в Сардинию… Там восстанавливается королевская власть. Французские солдаты идут в Испанию добивать герилью… Партизан!
Липранди передавал все это так бесстрастно, словно переставлял шахматы: его-то интересовало лишь одно — правильная оценка положения.
— С греками что? Хорошо с ними быть и не может. Священный Союз теперь в греках не заинтересован. Гетерии ушли за Прут, за Дунай, воюют по малости в Молдавии и Валахии. Ипсиланти — смелый генерал. Но кто скажет, будет занимать наш царь Валахию и Молдавию или же нет? Кого государь поддержит — греков? А может быть, Турцию? Поддержать греков — это же значит рядом со своей границей поддержать революцию! Вы понимаете, что Меттерних без всякого удовольствия услыхал о делах Семеновского полка — он всюду видит итальянских карбонариев. И главное — Турция. Все-таки Турция — как-никак государство, а греки — только повстанцы. С турками иметь дело легче. Да что творят, сами греки? Ипсиланти казнит турок! К чему? Бессмысленно! В Галацах греки вырезали сотню турок. Понятно, турки теперь будут резать греков в Константинополе! Ужасы, но вполне естественные. Не забудьте при этом, что греки пытаются восстать и на островах, а это еще больше раздражает турецкое правительство!
Черные глаза сливались с мраком, голос звучал по-прежнему холодно и ровно.
Нет ни правых, ни виновных. Как аукнется, так и откликнется. Око за око, зуб за зуб! Так было, так будет.
Как не похоже на Каменку! У Давыдовых — еда и экзальтация. Страсть. Волнения. Не смешно ли, а? Погорячатся, поспорят, а потом добрый ужин, отменный лафит. И так до конца. До смерти… Но ведь и Липранди борьбы не ведет. Он ее только рассматривает, оценивает, для него нет ни добра, ни зла. Он наблюдает, а чтобы вести борьбу — нужно другое. Героика. Победитель ли Ипсиланти, побежденный ли — он все равно история. Он все равно герой — живой или мертвый. Но как медленно идет она, история!
Липранди уходил уже при свечах — как всегда подчеркнуто, но суховато любезен. Выслушал Пушкина о впечатлениях его поездки и не задал ему ни одного вопроса.
Ушел.
Потом пришел звать Пушкина ужинать безрукий инвалид. Пушкин вернулся очень скоро: на ужин были огурцы, редька с конопляным маслом, кислая капуста, грибная похлебка и жареная щука.
— Пост, Никита! — сказал он, смеясь. — Не засидишься.
И сел за стол писать друзьям — почта оставалась единственным окном в свободу. Одиночество подступало, давило, жало, все чаще в письмах, в посланиях поэт вспоминает об одиночестве Овидия.
Судьбы поэтов — римского и русского, изгнанных своими императорами в Бессарабию, оказывались сходными:
…Как ты, враждующей покорствуя судьбе,
Не славой, участью я равен был тебе.
Здесь, лирой северной пустыни оглашая,
Скитался я в те дни, как на брега Дуная
Великодушный грек свободу вызывал.
И ни единый друг мне в мире не внимал;
Но чуждые холмы, поля, и рощи сонны,
И музы мирные мне были благосклонны.
Подошла последняя перед Пасхой неделя великого поста — Страстная.
Вместе со всеми чиновниками управления наместника Пушкин говел в Благовещенской церкви — неподалеку, тут же, в Старом городе. Три первых дня недели Пушкин с другими ходил в церковь, стоял обедню и вечерню, в среду должен был быть у исповеди, а в страстный четверг за обедней — причащаться.
Генерал Инзов все службы, как положено старому солдату, выстоял в установленной стойке — прямой, составив каблуки вместе, развернув носки сапог по фронту на ширину ступни: на службе небесному царю он был таким же добросовестным служакой, как и царю земному.
Все его подчиненные, штатские и военные, стояли за спиной своего начальника.
И на эту служивую публику с иконостаса, лицом к лицу, смотрели другие люди — святые.
Небесных людей кишиневская публика никогда в жизни не видывала, однако встречи с ними побаивалась — у святых людей были горячие глаза, насквозь видевшие души этих чиновников.
Выходил священник в ризе черного бархата с серебряным позументом, падал среди церкви на колени и взывал отчаянно:
— Господи, владыко живота моего!
Вместе с ним падали на колени, кланялись в землю, вставали сам генерал Инзов и с ним вся чиновничья братия, и все повторяли за священником слова молитвы:
— Избавь меня от духа праздности! От духа уныния! От духа празднословия!
Бормотали все они это очень равнодушно, привычно. Только один Пушкин вслушивался в эти слова и трепетал огненно:
«Не дай мне бог сойти с ума! Эти ведь дельцы, стяжатели, спекулянты просили себе «духа целомудрия, смиренномудрия, терпения!» Любви, наконец! О, великое лицемерие! Целомудрия просят! Ха-ха! Любви!»
И ведь он вместе с ними, с людьми, которые его, поэта, обманывают, подстерегают, ловят, как медведя на облаве! Не дают ему говорить правды! Держат на цепи, как орла под окном! И как же после всего этого ему, Пушкину, смотреть в горячие глаза святых, которых столь чтит целое тысячелетие его народ? Где же тогда правда? Где?
После смиренной молитвы Ефрема Сирианина Пушкин подымался с колен в тихом бешенстве… Куда его загнали? Что они заставляют его делать?
Так вспыхнула, так зародилась в поэте «Гаврилиада».
В этой поэме торжествует плоть, низвергающая плотоядно самые заветные, нежные, сердечные чаяния человечества…
…Ты рождена, о скромная Мария, —
говорит дух-соблазнитель чистой деве,—
Чтоб изумлять адамовых детей,
Чтоб властвовать их легкими сердцами,
Улыбкою блаженство им дарить,
Сводить с ума двумя-тремя словами,
По прихоти — любить и не любить…
Вот жребий твой…
И искуситель, соблазнитель, разоритель, провокатор, расхититель — дьявол издевается над тем, что бедное наше человеческое косноязычие выдает за блаженство. Издевается над самым терпеньем, оказывая «печальное влияние на нравственность нашего века»:
Какая честь и что за наслажденье!
На небесах как будто в заточенье…
И что ж потом? За скуку, за мученье
Награда всех дьячков осиплых пенье,
Свечи, старух докучная мольба,
Да чад кадил, да образ под алмазом,
Написанный каким-то богомазом…
Как весело! Завидная судьба!
И самое страшное в этих словах то, что они-то правильны. Реальны. Как тяжкие жернова, эти несущие сомнение, злые слова размалывают, казалось бы, с непреодолимой силой то неуловимо тончайшее, как розовый отсвет на грозовом черном облаке, что в течение тысячелетий приковывает к себе, постоянно влечет и радует своей нестойкостью взгляд человека.
Кружась обреченно в хороводе кишиневских чиновников, среди представителей казенного, орденами увешанного православия и среди нескольких провинциальных вольтерьянцев, поэт не боится — чудовищные эти пошлости, запечатляемые им в поэме с такой силой, при всем реально злостном правдоподобии своем распадаются в прах просто от самой их дикой тяжести. Гробовые камни всего умиравшего в течение миллионов лет истории человечества не завалили и не завалят духа вечно живой, вечно творящей Земли, подымающей, создающей новые и новые формы, утверждающей вечную жизнь.
Как восклицает Фауст у Гёте, рвущийся к живой истине:
Когда от дикого порыва
Отвлек меня знакомый звон
И чувства детские так живо
Восстали, — был я обольщен.
Всему, что душу обольщает,
Я шлю проклятие, — всему,
Что наше сердце увлекает,
Что льстит несчастному уму!
Проклятье — выспреннее мненье
О духе, разуме людском!
Проклятье — наше ослепленье
Блестящим всяким пустяком!
Проклятье грезам лицемерным,
Мечтам и славе, — тем мечтам,
Что мы считаем счастьем верным,
Семейству, власти и трудам!..
Будь проклята, любви отрада!
Проклятье соку винограда
И искрометному вину,
Надежд и веры всей святыне, —
Но больше всех тебя отныне,
Терпенье пошлое, кляну!
Так занести руку на содержание тысячетлетней веры человечества могли только гиганты творчества и мысли — Гёте и Пушкин.