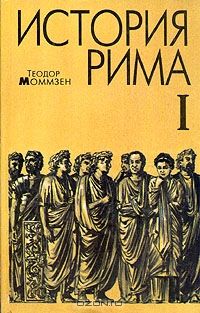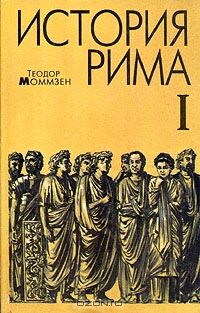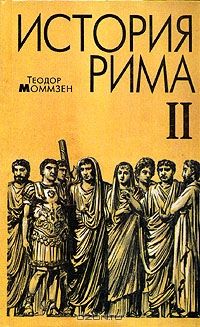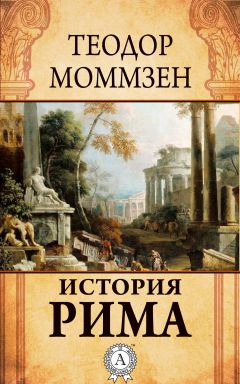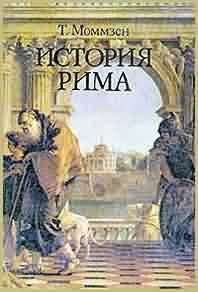Теодор Моммзен - Моммзен Т. История Рима.
Наместники этой последней, гористой, воинственной и отдаленной области всегда стремились достигнуть независимого от парфянского царя положения, и тем более оскорбительным и угрожающим по отношению к парфянскому правительству актом было принятие Помпеем предложенного ему этим династом выражение покорности. Не менее знаменательно было и то, что титул «царя царей», который римляне до сих пор признавали за парфянским царем, в официальных сношениях был теперь заменен ими простым царским титулом. Это было не только нарушением этикета, но и угрозой. С того времени, как Рим вступил во владение наследием Селевкидов, казалось, будто там собираются вернуться при удобном случае к тем старым порядкам, когда весь Иран и туранские страны были подвластны Антиохии и не было еще Парфянского царства, а только парфянская сатрапия. Ктесифонский двор имел бы, таким образом, достаточно причин, чтобы начать войну с Римом; прологом ее и казалась война, объявленная Фраатом в 690 г. [64 г.] Армении из-за вопроса о границе. Но он не решился все же открыто порвать с римлянами в тот момент, когда грозный полководец стоял со своей мощной армией на границах Парфянского царства. Когда Помпей прислал уполномоченных для мирного решения спора между парфянами и Арменией, Фраат принял навязанное ему посредничество римлян и примирился с тем, что римские арбитры присудили Кордуэну и северную Месопотамию армянам. Вскоре после этого дочь его с сыном и мужем украсили собой триумф римского полководца. Парфяне трепетали перед римским могуществом, и если они не были покорены римским оружием, то это объяснялось, по-видимому, только тем, что они не отважились вступить в борьбу с Римом.
Помпею предстояло еще заняться внутренним устройством вновь приобретенных областей и по возможности ликвидировать последствия тринадцатилетней опустошительной войны. Организационная работа, начатая в Малой Азии Лукуллом и состоявшей при нем комиссией и на Крите — Метеллом, была окончательно завершена Помпеем. Римская провинция Азия, включавшая в себя Мизию, Лидию, Фригию и Карию, превратилась из пограничной области в центральную; вновь были учреждены провинция Вифиния и Понт, образованная из всего бывшего царства Никомеда и западной части прежнего Понтийского государства до Галиса и по ту сторону его; провинция Киликия, существовавшая и раньше, но теперь расширенная соответственно своему названию и включившая Памфилию и Исаврию; провинция Сирия и провинция Крит. Правда, вся эта масса земель далеко не представляла собой римской государственной территории в современном смысле этого слова. Форма и порядок управления в основном остались прежние, только место бывших монархов занял Рим. Как и прежде, эти азиатские страны состояли из пестрой смеси государственных владений фактически или юридически автономных городских округов, светских и духовных княжеств и царств, которые были более или менее предоставлены самим себе во всем, что касалось внутреннего управления, а вообще зависели то в более мягкой, то в более строгой форме от римского правительства и его проконсулов, так же как раньше от великого царя и его сатрапов.
Первое место среди этих зависимых династов, по крайней мере по рангу, занимал царь каппадокийский; владения его были расширены до самого Евфрата еще Лукуллом, пожаловавшим ему Мелитену (возле Малатии), а затем и Помпеем, отдавшим ему на западной границе некоторые отрезанные от Киликии округа, от Кастабалы до Дербы близ Икония, а на восточной границе — назначавшуюся сперва для армянского принца Тиграна область Софену на левом берегу Евфрата, против Мелитены, так что важнейшая переправа через Евфрат была целиком в руках этого государя.
Небольшая область Коммагена, между Сирией и Каппадокией, со столичным городом Самосата (Самсат) осталась в качестве зависимого царства за упомянутым уже Селевкидом Антиохом 26 ; ему же были отданы важная крепость Селевкия (близ Бираджика), господствовавшая над южной переправой через Евфрат, а также полоса земли на левом берегу Евфрата. Таким образом, было предусмотрено, чтобы две важнейшие переправы через Евфрат и противолежащие территории на восточном берегу его находились в руках двух вполне зависимых от Рима династов.
Наряду с царями Каппадокии и Коммагены, но далеко превосходя их действительной мощью, в Малой Азии господствовал еще новый царь, Дейотар. Один из тетрархов жившего в окрестностях Пессинунта кельтского племени толистобогов, призванный Лукуллом и Помпеем вместе с прочими мелкими римскими клиентами в ряды армии, Дейотар, в противоположность бессильным восточным властителям, блестяще доказал в этих походах свою преданность и энергию, и римские полководцы присоединили под названием Малоармянского царства к его галатскому наследию и к его владениям в богатой области между Амисом и устьем Галиса восточную половину прежнего Понтийского царства с портовыми городами Фарнакией и Трапезундом и Понтийскую Армению вплоть до колхидской и великоармянской границы. Вскоре он увеличил свои и без того значительные владения присоединением области кельтов, трокмов, властителей которых он вытеснил. Таким образом, незначительный вассал стал одним из могущественнейших династов Малой Азии, которому могла быть доверена охрана важного участка римской границы.
Вассалами меньшего значения были остальные многочисленные галатские князьки, один из которых, трокмийский князь Богодиатар, получил от Помпея в награду за храбрость, проявленную в войне с Митрадатом, бывший понтийский пограничный город Митрадатион; далее, к ним относятся: пафлагонский царь Аттал, ведший свой род от древнего правящего дома Пилеменидов; Аристарх и другие мелкие владетели в Колхиде; Таркондимот, властвовавший в долинах Амана, в восточной Киликии; Птолемей, сын Меннея, продолжавший господствовать в Халкиде на Ливане; набатейский царь Арет в качестве повелителя Дамаска; наконец, арабские эмиры в областях по обоим берегам Евфрата — Абгар в Осроэне, которого римляне всячески старались вовлечь в свою сферу интересов, чтобы воспользоваться им как форпостом против парфян, Сампсикерам в Эмесе, Алкавдоний, повелитель рамбеев, эмир Бостры.
Сюда следует отнести также владык духовного сана, которые на Востоке часто повелевали целыми областями; римляне благоразумно воздерживались поколебать столь прочный на этой родине фанатизма авторитет их или хотя бы только изъять сокровища из храмов. Таковы были верховный жрец богини-матери в Пессинунте; два первосвященника богини Ма в каппадокийском Комане (на верхнем Саросе) и в одноименном понтийском городе (Гюменек возле Токата); оба они в своем крае уступали могуществом одному только царю и даже в гораздо более позднее время имели обширные владения с собственной юрисдикцией и по 6 тыс. храмовых рабов; первосвященником в Комане Понтийской Помпей назначил Архелая, сына носившего то же имя полководца, перешедшего от Митрадата к римлянам. К числу духовных владык относились также верховный жрец Зевса Веназийского в каппадокийском округе Моримена, доходы которого равнялись 15 талантам в год; «первосвященник и повелитель» той области суровой Киликии, где Тевкр, сын Аякса, построил храм Зевса, управление которым перешло по наследству к его потомкам; «первосвященник и народный вождь» евреев, которого Помпей, после того как он снес стены столицы и царские сокровищницы и крепости в стране, снова поставил во главе народа, сделав ему строгое предупреждение о необходимости соблюдать мир и отказаться от стремления к завоеваниям.
Рядом с этими светскими и духовными владетелями находились городские общины, которые были отчасти организованы в крупные союзы, пользовавшиеся относительной самостоятельностью, как, например, благоустроенный и не принимавший никогда участия в предприятиях пиратов союз 23 ликийских городов; с другой стороны, многочисленные разрозненные общины, даже те из них, которым было гарантировано самоуправление, фактически находились в полной зависимости от римских наместников.
Римляне поняли, что, являясь представителями эллинизма и приняв на себя задачу охранять и расширять границы царства Александра на Востоке, они должны были прежде всего заботиться о развитии городской жизни, так как если города всюду являются носителями культуры, то антагонизм между Востоком и Западом особенно сильно сказался в противоречии между восточной военно-деспотической феодальной иерархией и эллино-италийским промышленно-торговым городским бытом. Как ни мало стремились вообще Помпей и Лукулл к нивелировке всех отношений и как ни был склонен Помпей критиковать и изменять в частностях распоряжения своего предшественника, оба они сходились в признании необходимости содействовать подъему городской жизни в Малой Азии и Сирии. Владения Кизика, энергичная оборона которого остановила первое наступление Митрадата в последнюю войну, были значительно расширены Лукуллом. Понтийской Гераклее были возвращены ее территория и порты, несмотря на то что она упорно сопротивлялась римлянам, и варварское обращение Коты с этим несчастным городом вызвало резкое порицание в сенате. Лукулл глубоко и искренно сожалел о том, что судьба лишила его счастья спасти Синоп и Амис от разрушения понтийскими и римскими солдатами; он сделал, по крайней мере, все, что мог, чтобы восстановить эти города, расширил их территорию, снова заселил их частью прежними жителями, толпами возвращавшимися по его приглашению на любимую родину, частью новыми колонистами эллинского происхождения и заботился также о восстановлении разрушенных зданий. Помпей принимал меры в том же направлении, но в еще большем масштабе. После победы над пиратами он, вместо того чтобы, по примеру своих предшественников, казнить пленных, число которых превышало 20 тыс., поселил их частью в опустевших городах киликийской равнины, как Маллос, Адана, Эпифания, и особенно в Солах, получивших с тех пор название города Помпея (Помпейуполь), частью — в Димах, в Ахайе и даже в Таренте. Эта колонизация страны пиратами многими осуждалась 27 , так как она в известной степени назначала как бы награду за преступления; в действительности же мероприятие это было вполне правильно как с политической, так и с нравственной точки зрения, ибо в условиях того времени пиратство было совсем отлично от разбоя, и с пленными пиратами по справедливости следовало поступать по военным законам.