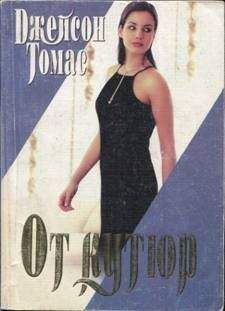Андрей Савельев - 1612. Минин и Пожарский. Преодоление смуты
– В образованных странах, – сказал с неподражаемым самодовольством магистр, – есть тюрьмы, в которые запирают безумных, оскорбляющих то, что целый народ чтит… и прекрасно делают.
Белинский вырос, он был страшен, велик в эту минуту. Скрестив на больной груди руки и глядя прямо на магистра, он ответил глухим голосом:
– А в еще более образованных странах бывает гильотина, которой казнят тех, которые находят это прекрасным».
Понятно, почему Белинский был для большевиков целой литературной эпохой. Ненависть к России и готовность к террору против всех, кому Россия дорога, – это и есть наследие «революционных демократов», тип которых большевистские историографы и литературоведы вывели постфактум.
При всей наглости, несдержанности, грубости, Белинский, как отмечает Герцен, был крайне застенчив. Когда у него не было повода для скандала или вокруг не было сочувственной аудитории, он вел себя совсем иначе, чем в моменты, когда позволял себе неистовые вспышки: «К. уговорил его ехать к одной даме; по мере приближения к ее дому Белинский все становился мрачнее, спрашивал, нельзя ли ехать в другой день, говорил о головной боли. К., зная его, не принимал никаких отговорок. Когда они приехали, Белинский, сходя с саней, пустился было бежать, но К. поймал его за шинель и повел представлять даме». В другой раз, чувствуя неловкость своего положения в чужой компании, Белинский случайно перевернул стол с посудой, стеснявший его, и в поднявшейся суматохе сбежал.
Вот жуткий портрет беса, наказанного за свою ненависть к Богу: «Без возражений, без раздражения он не хорошо говорил, но когда он чувствовал себя уязвленным, когда касались до его дорогих убеждений, когда у него начинали дрожать мышцы щек и голос прерываться, тут надобно было его видеть: он бросался на противника барсом, он рвал его на части, делал его смешным, делал его жалким и по дороге с необычайной силой, с необычайной поэзией развивал свою мысль. Спор оканчивался очень часто кровью, которая у больного лилась из горла; бледный, задыхающийся, с глазами, остановленными на том, с кем говорил, он дрожащей рукой поднимал платок ко рту и останавливался, глубоко огорченный, уничтоженный своей физической слабостью».
Все гневные характеристики лондонской эмиграции, которые потом давал Герцен, в своих типажах напоминают разноликие карикатуры на Белинского – и жалкие, и подлые, и скандальные, и робкие.
Достоевский дал в «Дневнике писателя» убийственную характеристику Белинского, разместив его в своих воспоминаниях среди «старых людей»:
«Белинский был по преимуществу не рефлективная личность, а именно беззаветно восторженная, всегда, во всю его жизнь. (…) Выше всего ценя разум, науку и реализм, он в то же время понимал глубже всех, что одни разум, наука и реализм могут создать лишь муравейник, а не социальную «гармонию», в которой бы можно было ужиться человеку. Он знал, что основа всему – начала нравственные. В новые нравственные основы социализма (который, однако, не указал до сих пор ни единой, кроме гнусных извращений природы и здравого смысла) он верил до безумия и безо всякой рефлексии; тут был один лишь восторг. Но, как социалисту, ему прежде всего следовало низложить христианство; он знал, что революция непременно должна начинать с атеизма. Ему надо было низложить ту религию, из которой вышли нравственные основания отрицаемого им общества. Семейство, собственность, нравственную ответственность личности он отрицал радикально. (Замечу, что он был тоже хорошим мужем и отцом, как и Герцен). Без сомнения, он понимал, что, отрицая нравственную ответственность личности, он тем самым отрицает и свободу ее; но он верил всем существом своим (гораздо слепее Герцена, который, кажется, под конец усумнился), что социализм не только не разрушает свободу личности, а, напротив, восстановляет ее в неслыханном величии, но на новых и уже адамантовых основаниях».
Достоевский приводит характерные высказывания Белинского:
«– Да знаете ли вы, – взвизгивал он раз вечером (он иногда как-то взвизгивал, если очень горячился), обращаясь ко мне, – знаете ли вы, что нельзя насчитывать грехи человеку и обременять его долгами и подставными ланитами, когда общество так подло устроено, что человеку невозможно не делать злодейств, когда он экономически приведен к злодейству, и что нелепо и жестоко требовать с человека того, чего уже по законам природы не может он выполнить, если б даже хотел… (…)
– Мне даже умилительно смотреть на него, – прервал вдруг свои яростные восклицания Белинский, обращаясь к своему другу и указывая на меня, – каждый-то раз, когда я вот так помяну Христа, у него всё лицо изменяется, точно заплакать хочет… Да поверьте же, наивный вы человек, – набросился он опять на меня, – поверьте же, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком; так и стушевался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества».
Как и Герцен, Белинский был переполнен выхолощенной ученостью – преклонением перед иностранными авторитетами. Достоевский писал, что для Белинского особенным авторитетом были малоизвестные или быстро забытые французы Жорж Занд, Кабет, Пьер Леру и Прудон, а также Фейербах. «Белинский, не могший всю жизнь научиться ни одному иностранному языку, произносил: Фиербах».
Белинский умер от туберкулеза, нескольких дней не дожив до 37 лет. Возможно, короткой жизнью он не успел наделать глупостей, которые прослеживал в нем Достоевский: «Белинский, может быть, кончил бы эмиграцией, если бы прожил дольше и если бы удалось ему эмигрировать, и скитался бы теперь маленьким и восторженным старичком с прежнею теплою верой, не допускающей ни малейших сомнений, где-нибудь по конгрессам Германии и Швейцарии или примкнул бы адъютантом к какой-нибудь немецкой m-me Гёгг, на побегушках по какому-нибудь женскому вопросу».
Такая судьба ожидала революционеров круга Герцена и подобных ему, а также февралистов 1917 года, бежавших из страны, которую они хотели перестроить по рецептам Белинского.
Бакунин – слава и позор революционеров
Третий тип революционера – наряду с праздным барином и сошедшим с ума публицистом – является нам в лице Бакунина.
Будущему певцу революционных бурь, сгинувшему в самом их начале, поэту Александру Блоку очень нравились слова Герцена о Бакунине, которые он, вероятно, относил и к себе: «Меня, если б знали во всех изгибах, поставили бы, может, на одну доску с Бакуниным, т. е. талант и дрянной характер». При всем почитании, собственная блоковская характеристика Бакунина убийственна. Бакунин, по его словам, «вопил на всю Европу, или «ревел, как белуга», грандиозно и безобразно, чисто по-русски. Сидела в нем какая-то пьяная бесшабашность русских кабаков: способный к деятельности самой кипучей, к предприятиям, которые могут привидеться разве во сне или за чтением Купера, – Бакунин был вместе с тем ленивый и сырой человек – вечно в поту, с огромным телом, с львиной гривой, с припухшими веками, похожими на собачьи, как часто бывает у русских дворян. В нем уживалась доброта и крайне неудобная в общежитии широта отношений к денежной собственности друзей – с глубоким и холодным эгоизмом».
В своем объемном сочинении «Былое и думы» Герцен не забывает напомнить читателю, что Бакунин был препровожден в армию отцом, который, вероятно, надеялся приобщить эту пылкую натуру к дисциплине. Не вышло. Бакунин «одичал, сделался нелюдимом, не исполнял службы и дни целые лежал в тулупе на своей постели». Пока не получил отставки. В Москве, попав в руки «революционным демократам», он получил от них применение – друзья заразили его философией. «Бакунин по Канту и Фихте выучился по-немецки и потом принялся за Гегеля, которого методу и логику он усвоил в совершенстве – и кому ни проповедовал ее потом! Нам и Белинскому, дамам и Прудону». Свои фантазии Бакунин дополнил фантазийно воспринятыми фантазиями немецких философов. Чтобы потом отречься от всего, «излечившись от метафизики».
Герцен рассказывает два страшных эпизода из авантюрной жизни Бакунина. Во время восстания в Германии, Букунин участвовал в организации обороны Дрездена и советовал выставить на городские стены против прусской артиллерии «Мадонну» Рафаэля и картины Мурильо. Мол, пруссаки – люди ученые, не станут стрелять. В другой раз Бакунин стал случайным свидетелем волнений в каком-то германском местечке. Узнав, что крестьяне не умеют добраться до своего обидчика, укрывшегося в замке, Бакунин между делом научил, как поджечь замок и спокойно продолжил свой путь, не дожидаясь развязки.
Вероятно, Герцен был единственным русским, кто до отъезда Бакунина за границу сохранил с ним дружеские отношения. Притом что только Герцен был способен выдавать Бакунину бессрочные и безвозвратные кредиты и не поминать о них. И прощать за впечатляющие подлости. Герцен был единственным, кто провожал Бакунина на чужбину. Потому что всем его друзьям отвратительна была сцена, в которой Бакунин оскорбил своего приятеля публициста Каткова и тут же вызвал его на дуэль. А потом, испугавшись, попросил отложить ее и перенести за рубеж. Дуэль так и не состоялась. Огарев самым кратким образом оценил Бакунина: подлец. Позднее Огарев вновь сойдется с Бакуниным на почве «нечаевщины» – проповеди террора, от которой они также солидарно потом откажутся.