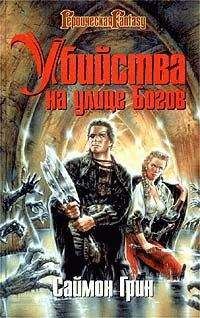Валентина Брио - Поэзия и поэтика города: Wilno — װילנע — Vilnius
Главное здесь «претворить в слово» как смысл поэтического творчества. Милош словно стремился преодолеть ту пропасть, которая извечно разделяет живое впечатление от реального города и словесный город в литературе, — в том смысле, в каком, например, Лондон Диккенса и английская столица Лондон «находятся в разных странах»[257]. Живет здесь и представление Милоша о поэте как о медиуме, передающем видимую им картину читателю из отдаленного времени. Согласуется это и с его мыслью: «Иногда мне кажется, что именно так смогли бы заключить это в слове другие, те, заместителем которых я являюсь»[258] (т. е. множественность точек зрения). Полет «паучка», гонимого ветром, образ для Милоша важный и значимый и тоже возвращающий к юности, «тянущий нить» от впечатлений от книги Сельмы Лагерлеф «Путешествие Нильса с дикими гусями», настолько ярких, что он увидел в персонаже, взирающем на землю сверху, образ поэта (об этом Милош рассказал в своей Нобелевской лекции).
Близким по смыслу является стихотворение «Rodowód» (1987; «Родословная»): игра в футбол и окружающая архитектура барокко, до которой мальчикам, молодым людям тоже нет дела.
Наверно, много общего у нас,
У нас, которые выросли в городах Барокко.
<…> Мы просто играли в футбол под аркадами портиков,
Бегали мимо эркеров и мраморных лестниц.
Позже нам были милее скамейки в тенистых парках,
Чем изобилие гипсовых ангелов над головами.
Но что-то осталось в нас: предрасположенье к извивам,
Высокие спирали противоположностей, пламеподобные,
Наряжание женщин в пышно драпированные платья,
Дабы придать блеска танцу скелетов.
Все построено на противоположностях: эстетические ценности, история, даже легенда и — футбол, персонажи ходили мимо этого великолепия. И тем не менее все названо: игра мотивами, игра деталями. Поэтика барокко проступает в описании скульптуры, живописи (первое знакомство с которыми происходило, вероятно, в виленских костелах).
В заключительном четверостишии лапидарность не вступает в противоречие с лиризмом, черты семантики барокко вписываются в стиль и короче: барочный стиль (и даже образ) жизни. Здесь барокко отчетливо выступает и как декорация, «реквизит» (для игры в футбол мальчишек), архитектурное пространство театрально — и в стихотворении, и в реальности города. О яркой театральности барокко виленских костелов писал в 1940 г. искусствовед М. Воробьевас: «Неисчерпаемое разнообразие деталей… сливается в гармоничную симфонию, и сама архитектура становится сообщницей этого веселого пиршества играющих форм, красок и света… если мы отнесемся непредвзято к его беззаботному полету, то неизбежно заразимся его искрящимся брио, его стихийным, безудержным движением, рожденным из бесконечных орнаментальных изгибов и игры причудливо изломанных линий, из контрапунктного сплетения карнизов и обрамлений, то встречающихся, то вновь расходящихся… Чтобы наглядно объяснить этот стиль, недостаточно сказать, что архитектура тут пронизана живописным началом: это дух музыки схватил ее, растворил и, размыв статику архитектурных форм, закружил их в бешеном танце»[260] (это лишь часть описания фасада костела Иоанна, расположенного в центральном университетском дворе; именно его архитектурные детали и лепку чаще других упоминает Милош в своих стихах).
Виленское барокко, которое и знатоки и дилетанты-любители единодушно выделяют как особую разновидность этого стиля, не могло так или иначе не наложить некий отпечаток или хотя бы тень (или уж тогда барочную по своей сути игру света и тени) на некоторые произведения Милоша — подобно тому, как по-своему произошло это в творчестве Словацкого[261]. Ведь и сам поэт придает барокко именно формирующее значение. И в поэтике Милоша ощущаются подчас в глубинной сути признаки этого стиля: в смешении, иронии, фантасмагорических картинах, в остроте и экспрессии образов, разностильное™, гротеске; в том особенном универсуме, который складывается в его стихах.
В стихотворении «Dawno i daleko» из цикла «Dalsze okolice» («Дальние околицы», 1991) тоже действует закон апокатастазиса.
Было это очень, очень давно,
В городе, который был как оратория,
Выстреливая стройными башнями в небо
В облака, среди холмов зеленых,
Росли мы рядом, не зная друг о друге,
Среди тех же легенд: о реке подземной,
Которой никто никогда не видел, о василиске
Под средневековой башней, о тайном ходе,
Что вел из города на далекий остров
С руинами замка посреди озера.
Река нас радовала весною каждой:
Треск льда, ледоход, и тут же лодки,
Окрашенные в зеленую и голубую полоску,
И плоты, величаво плывущие на лесопилку.
<…> только сейчас, когда исполнилось
каждое «любит-не-любит», а грустное и смешное
стали одним, когда соединяюсь
с хлопцами и паненками, прощаясь с ними,
знаю, как велика их любовь к родному городу,
которой не сознавали, хоть длилась она всю жизнь.
Судьбой их должна была стать утрата отчизны,
поиски памяток, знака, того, что не гибнет.
Желая ее одарить, одно бы я выбрал:
вернул бы ее меж снов архитектуры,
туда, где Анна и Бернардины,
Ян и Миссионеры встречают небо.
Działo się to bardzo, bardzo dawno.
W mieście, które było jak oratorium
Strzelające strojnymi wieżami ku niebu
W obłoki, spośród zielonych pagórków.
Rośliśmy tam tuż obok, nie wiedząc о sobie,
W tej samej legendzie: о rzece podziemnej,
Której nikt nigdy nie widział, о bazyliszku
Pod średniowieczną basztą, о tajemnym przejściu,
Które prowadziło z miasta na odległą wyspę
Z ruiną zamku pośrodku jeziora[262].
Уже отмечено, что сравнение города с ораторией навеяно, скорее всего, картиной с таким названием (1944 г.) Людомира Слендзиньского, виленского художника из поколения Милоша, которого он назвал «неоклассиком, отличающимся от всех своих современников»[263]. У Милоша это сравнение не просто отсылает к приметам культуры, но изначально задает возвышенную ноту всему описанию. Более того, мы обнаружим в его стихах и черты поэтики, характерные для изображения этого города в виленской поэзии межвоенного двадцатилетия, что усиливает ощущение того времени. Но задача поэта не в этом. Стихотворение глубоко драматично и даже трагично — оно и развивается по законам оратории. Короткое счастье юности оттеняет горечь судеб героев — сверстников автора в водовороте истории XX века. В поздних стихах Милоша встает проблема пространства как человеческой судьбы. Оратория переходит в реквием, становится памятником.
Мотив «вернул бы» развивался и в других стихах. В «Городе юности», стихотворении-прощании, он приравнивал свои попытки в точности «восстановить» город к способностям демиурга или медиума (что близко к его рассуждениям о медиумичности поэзии вообще), чтобы говорить их голосом или принимать их облик. Он чувствовал свой долг перед ними, свою ответственность, и главное — возможность и способность пережить некий миг со-чувствования с друзьями, людьми из того общего прошлого.
Приличней было бы не жить. Жить — неприлично,
Говорит возвратившийся многие годы спустя
В город юности. Не было здесь никого,
Из тех, кто по улицам этим когда-то ходил,
А теперь ничего не имел, кроме его глаз.
Спотыкаясь, он шел и глядел вместо них
На солнечный день, на цветущие вновь сирени.
Его ноги, как бы то ни было, были лучше,
Чем никакие. Его легкие вдыхали воздух,
Как обычно у всех живых. Его сердце билось,
Удивляясь, что бьется. В его теле струилась их кровь,
А его артерии питали их кислородом.
Он в себе ощущал их кишки, их печени, почки,
Мужское и женское, минувшие, в нем встречались,
И каждый их стыд, и каждая грусть и любовь.
И если нам доступно пониманье —
Он думал — то в сочувствующий миг,
Когда исчезает, что меня отделяло от них,
И кисть сирени сыплет капли на лицо
Его, ее, мое — одновременно.
Итак, в 1980—1990-е гг. характер виленских образов и описаний Милоша изменяется. Размышления над огромными историческими переменами, коснувшимися тихой некогда провинции, привели автора к убеждению в своей личной ответственности как свидетеля — быть может, оставшегося единственным, и потому обязанного и призванного сохранить память. «Город существует для меня, ничего не могу с этим поделать, одновременно сейчас, вчера и позавчера… Как и в 1992-м, когда я оказался там через пятьдесят два года небытия и написал стихотворение о хождении по городу теней»[265].