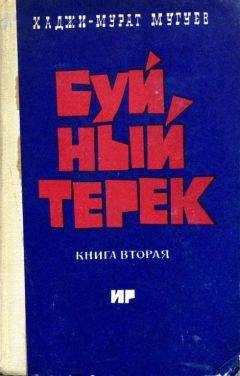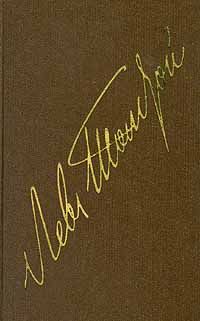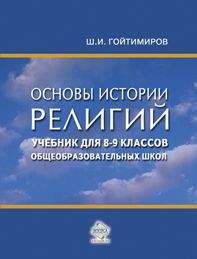Булач Гаджиев - Шамиль
Таким образом, Кавказская война явилась результатом беспощадного угнетения трудящихся горцев ханами и беками, с одной стороны, и царскими колонизаторами, с другой. Ни один ив трех имамов, не будь всего этого, не сумел бы поднять народные массы на войну.
Долгая борьба против колонизаторов и местных феодалов также не могла бы вестись без социальной базы, с помощью лишь «кучки мюридов», как считают некоторые. Выступившие под флагом газавата — «священной войны» острие удара направили не только против самодержавия, но и против беков и ханов, которые изнутри старались разрушить движение.
Родиной дагестанского мюридизма (откуда разнеслись призывы к газавату) следует считать лезгинский аул Юхари–Яраг Кюринского округа. А первым человеком, начавшим проповеди мюридизма, был мулла Магомед. На сходе земляков он заявил, что все их беды начались, прежде всего, с прихода в Дагестан царских войск. Он напомнил, что семь лет их родиной правил генерал Ермолов.
«Что делаете в это время вы? — спрашивал мулла Магомед толпу. — Чем заняты? Совершенно забыли религию. А отсюда и проистекают самые дурные последствия: воровство, пьянство, разврат. Во главе аулов находятся люди невежественные, страдающие дурными пороками. Убийство и кровопролитие у нас в порядке вещей… Я пришел к выводу, — продолжал говорить Магомед Яраглинский, — что если так и дальше будет оставаться, то царские войска захватят весь Дагестан, а мы падем до последней степени нравственно и духовно… И тогда никому из нас не избежать божьего наказания».
Экзальтированная масса спрашивала, что ей делать.
«Идти на газават! — тогда объявил мулла. — На священную войну!»
Слухи о странных проповедях докатились в Казикумух к Аслан–хану, в земли которого входил и Юхари–Яраг. Предчувствуя недоброе, хан тотчас отправил в Южный Дагестан своего личного секретаря Джамалутди–на. Выбор пал на этого человека еще и потому, что он, как никто в Дагестане, знал религиозные учения самых разных толкований. Но, побывав в Юхари–Яраге, Джамалутдин не только не разоблачил, не изолировал муллу Магомеда, но и остался с ним, отказавшись вернуться к своему повелителю. Он видел, как сюда прибывали и простые горды, и муллы из самых отдаленных точек Дагестана и даже из Чечни.
«Народ, — обращаясь к ним с крыши высокой сакли, внушал Магомед, — мы не магометане, не христиане и не идолопоклонники. Магометане не могут быть под властью неверных… Молитесь богу усердно, плачьте и просите его… а когда нужно будет вооружиться — о том я узнаю по вдохновению от бога и тогда объявлю вам…»[2].
Очень скоро в Кюрдрмирском обществе, Казикумухском и соседних с ним округах можно было наблюдать, как взрослые люди, называвшие себя мюридами, ходили из аула в аул, размахивая деревянными саблями, и беспрерывно повторяли слово «газават» — «священная война».
Чтобы стать мюридом–послушником, требовалось благословение мюр–шида. Первым наставником был признан шейх Магомед Яраглинский. На Кавказе мюриды делились на мюридов по тарикату и мюридов наибских. ГЙрвые являлись скорее монахами, чем воинами. Они обязаны были вести аскетический образ жизни, мало разговаривать, как можно больше молиться богу, не думать о газавате, чувствовать к войне отвращение. Мюриды наибские, напротив, должны были целиком посвятить себя войне: бросить семью, детей, взять в руки ружье и идти на газават против неверных. Своей пропагандой и призывами мулла Магомед придал мюридизму политическое направление.
Таким образом, мюридизм как движение стал формироваться где‑то с 1823 года. Нужен был человек, который возглавил бы его. В 1824 году в этой роли выступил житель аула Гимры Койсубулинского общества Кази–Магомед. Он был объявлен первым имамом. Искра, брошенная его учителем, муллой Магомедом, разожгла пожар в части Дагестана и Чечни. Кази–Магомед очистил от царских войск десятки аулов, обрушился на города Дербент и Кизляр. Восемь лет носился он из края в край, будоражил массы, толкал их на борьбу, но, хотя военные успехи его были внушительными, целей своих первый имам Дагестана не достиг.
Кази–Магомед, многие участники восстания вели борьбу против «неверных», с которыми по сути никогда не виделись. В то же время феодальный гнет, крепостное право, а кое–где и рабство в Дагестане сохранились. Прежде всего поэтому крестьянство, главная движущая сила восставших, охладела к борьбе. Первый имам не оправдал их надежд. Оказавшись в кольце царских войск, в октябре 1832 года Кази–Магомед погиб.
Второй имам, Гамзат–бек, был во главе движения очень короткое время. Его убили в Хунзахской мечети 19 сентября 1834 года сторонники аварских ханов.
Шамиль видел в мюридизме подходящее идеологическое оружие в «священной войне», газавате, против царизма. Но он был первым из имамов, который рядом со словом «газават» поставил слово «равенство». Следовательно, объектом газавата для горцев был российский царизм, а для
достижения «равенства» необходимо было вести борьбу и против ханов, беков.
Судьба Шамиля была бы такой же, как и у других имамов, если бы народ не знал что в основании его действий лежит идея равенства, идея освобождения большинства из‑под ига меньшинства… Если бы на его месте был кто‑нибудь, действовавший по другим принципам, он с первых же шагов был бы выдан властям или убит своими же сородичами.
«Теперь нет споров, — говорит доктор исторических наук А. В. Фадеев, — что в движении под флагом мюридизма на Северном Кавказе участвовали народные массы. Бесспорно, что участие масс в этом движении было проявлением стихийного протеста против завоевательной политики царизма и против произвола феодалов».
Таким образом, только социально–политическая обстановка, сложившаяся к 20–м годам XIX века в Дагестане и Чечне, бесчеловечная эксплуатация крестьян ханами и беками и вторжение войск Российской империи в ущелья гор, а не мюридизм, не газават — война с «неверными» — были причинами, заставившими горцев взяться за оружие. И из имамов это сумел понять лишь Шамиль. Правда, надо помнить, что справедливая война, которую вели горцы с царским самодержавием, была облачена в реакционную оболочку. И еще одно: горцы воевали не с русским народом, а выступали против жестокой колонизаторской политики царского правительства на Северо–Восточном Кавказе. Борьба горцев ослабляла позиции самодержавия в целом и, следовательно, объективно способствовала революционному движению трудящихся масс в самой России. Этого очень важного положения также не следует забывать. «Вот тропа Шамиля», — покажут вам едва видимую глазом линию на скале у Красного моста. «Эту крепость построил Шамиль», — скажут вам в Гуни–бе. Вас торжественно попросят сесть на каменный стул «самого Шамиля», что сохранился в Читле. Хотя Шамиль, может быть, никогда не ходил по тропу у Красного моста, не строил Гунибскую крепость и не садился на каменный стул в Читле. Но такова память и любовь народа к своему герою. В годы Великой Отечественной войны дагестанцы на свои личные сбережения построили танковые колонны «Шамиль», чтобы бить фашистов, наших общих врагов.
«Имя Шамиля никогда не должно служить помехой дружбе народов Дагестана с русским и кавказскими народами, — справедливо отметил профессор Р. М. Магомедов, — мы, дагестанцы, скорее забудем имя Шамиля, чем допустим это. Интернациональное чувство для нас превыше всего».
Эта книга — своеобразная попытка, не особенно придерживаясь исторических рамок и хронологической канвы, рассказать о личности Шамиля, о его семье, о людях, которые были так или иначе близки к нему, о его потомках и о прочем, что, как нам кажется, может представить интерес для читателя.
«КОРИДОР СМЕРТИ»
Во второй половине 1832 года первый имам Дагестана Кази–Магомед удачно действовал в Чечне. Туда был отправлен десятитысячный отряд генерала Розена, и имам вынужден был отбыть к себе, в аул Гимры. Розен решил следовать за отступающими горцами.
8 октября 1832 года царский генерал прибыл в Темир–Хан–Шуру, имея в своем подчинении восемь тысяч человек. Войска двинулись на запад с двух перевалов Гимринского хребта — Каранайского и Эрпелинского, спустились в ущелье и завязали бой с мюридами Кази–Магомеда.
14 октября солдаты подошли к Гимрам. Три дня ушло на расчистку дороги и уборку снежных заносов.
17–го завязался бой, и, как сообщал военный историк Семен Эсадзе, «после четырехчасовой свалки, наконец, Гимры, заваленные трупами, были взяты». В это время Кази–Магомед и Шамиль с 13 мюридами находились в двухэтажной башне, построенной в самом узком месте Гимринского ущелья. Осаждавшие предлагали им сдаться. Но из башни отвечали выстрелами. Когда же солдаты, взобравшись на крышу сооружения, начали безнаказанно стрелять в тех, кто находился внутри, Кази–Магомед схватил шашку и прыгнул со второго этажа. Преодолеть шесть рядов солдат, стоящих шпалерами, ему не удалось. Имама приняли на штыки. За ним выпрыгнул, в надежде очутиться за стеною из людей, племянник Кази–Магомеда Мухамед–Султан, но погиб и он. Ни один мюрид не захотел последовать их примеру. Тогда к прыжку приготовился Шамиль. Засунув полы черкески за пояс, он вытащил шашку. Оглянувшись на мюридов, Шамиль попрощался, сделал небольшой, но энергичный разбег и так стремительно вылетел из башни, что очутился на земле позади солдат. Во время полета из башни кто‑то прикладом сбил с Шамиля папаху с чалмою. Когда он приземлился и чудом устоял на ногах, на него набросились люди. Ударом шашки храбрец свалил одного, другого. Кольцо разорвалось, и Шамиль побежал. Он устремился вниз по ущелью в сторону аула. Это ущелье было знакомо ему с детства, он знал в нем все ходы и выходы.