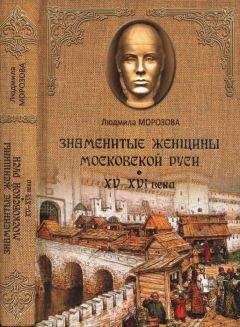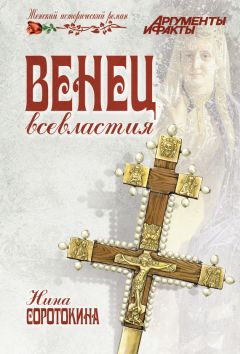Юний Горбунов - Софья Палеолог
Софья об орле молчала – не ее, мол, это ума дело. Но утром другого дня велела поставить трон в Аудиенцзале великокняжеских хором.
Каменные церкви, что и говорить, нет-нет да и падали на Руси. Исконные руссские древоделы камня побаивались – тяжел, холоден, неподатлив и какой-то нездешней хитрецы требует. С мягким, как воск, деревом, коего в Московии видимо-невидимо, обходиться было привычнее. И Богородице в деревянном-то храме – как у Христа за пазухой.
Осторожно подступали к Москве от юго-западных границ каменные святыни. А утвердившись, они как-то исподволь все равно наполнялись и обрастали деревом. Особенно – исподу. “Мерцающая живопись” византийских мозаик, древневосточная фреска только гостевали на Руси и нездешней смотрелись одежкой. Куда ближе к телу русского храма были теплые сливочные иконы, по дереву писаные. Камень стен конфузливо прятался и исчезал под ними.
А что горела деревянно-иконная Русь по два раза на дню – так ведь за грехи.
Софье же деревянная Москва очень скоро надоела до чертиков. В ней, деревянной, все смотрелось временным, балаганно-бутафорским. Терема, храмы, избы и клети, вот эта ее повалуша со скрипучими половицами и невесомым, вловно бы куда-то летящим крыльцом. Всегда приходится ей за что-то держаться, искать руками перила и опору. Даже стены Кремля... От былых белокаменных ничего не осталось – латаны-перелатаны и надстроены все тем же неизменным деревом.
А пожарище... Упаси Богородица еще раз пережить такое.
После того, как опростоволосились московские строители, и в митрополичьей Москве (стыд-то какой!) рухнул соборный храм, воздвигнутый прилюдно в состязании с Владимирским Успеньем, но с еще большим размахом, Софья уже не упускала случая уязвить перед Иоанном Васильевичем деревянную немощь и примитив самостийного каменного строительства престольной столицы. Намекала, где походя, где невзначай, а где и капризом венценосной царевны. Не пристало, мол, царю всея Руси и наследнику ромейских цезарей обитать за стенами, что латаны деревом и держатся на подпорках. И молиться в храме, готовом рухнуть на венценосные головы. При этом снова и снова всплывало в разговоре имя болонского мастера, архитектора, строителя и пушечника Аристотеля Фиораванти.
Не скрыла Софья и неудачу его в Венеции, понимая, что дотошному великому князю все равно о том нашепчут-донесут.
А случилось, что после выпрямленной колокольни в Ченто Аристотеля поспешила заполучить и венецианская синьория, чтобы он проделал ту же операцию с башней церкви св. Ангела. А башня после его манипуляций возьми да и рухни, похоронив под обломками несколько человек. Случилось, говорили, от слабости грунта, и неудача в Венеции, похоже, только усугубила европейскую известность неутомимого болонца.
Его стали приглашать наперебой и поручать самые хитроумные задачи: то поднять со дна Неаполитанского залива тяжелый ящик с драгоценностями, то испрямить русло реки...* Вот бы, намекала мужу Софья, выбрав подходящую минутку, кто мог исправить Успенскую святыню.
“Да ведь... – она делала интригующую паузу, – за малые деньги не возмется мастер. Хоть и наслышан он о московской державе...”
Раз за разом возникали такие беседы в покоях Софьи. Иоанн Васильевич, видела она, без советчиков не мог обходиться. То к матери шел, то к новопоставленному всевладыке Геронтию или к какому нарочитому боярину, что в сей момент у него в угоде. На советы ухо востро держал. Но вида не подавал и никогда ничего не решал всуе. День пройдет, седьмица.
“А не позвать ли на Москву зело умудренного фрязина Аристотеля?” – раздумчиво спросит ее великий князь.
Софья эту тактику быстро усвоила: советы давала между делом, оказливо, словно и не говорила ничего, а так, птичка чья-то залетела, в клюве зернышко принесла и обронила ненароком.
Видела, что с Аристотелем у Иоанна Васильевича все решено, а гложет его тайный вопрос: кого за болонцем послать? Иван Фрязин своей двойной хитроумной игрой сильно смутил и раздосадовал великого князя, и предлагать ему в послы нового фрязина – дело безнадежное.
С послами на Руси была еще проблема: своих посылать не насмеливались, а фряги то и дело предпочитали личный интерес государеву. Оценить чудесного архитектора и привезти на Русь Иоанн поручил некоему Семену Толбузину, первому, известному нам, отечественному послу. Итальянец Антон – опять-таки Фрязин – состоял при нем только толмачом, секретарил.
Весной 1475 года Семен Толбузин привез Аристотеля Фиораванти в Москву. Знаменитый болонец согласился за ежемесячное вознаграждение в 10 рублей и два фунта серебра. Но, судя по всему, не звон московских монет потянул сюда 60-летнего болонца – в деньгах, похоже, он и в Италии не нуждался, – а потянул тот же черноземный дух новизны и богатые возможности приложить свой ум и энергию, коих было у Аристотеля в избытке.
Подумать только: прежде чем взяться за исправление храма, он не только съездил во Владимир, чтобы осмотреть предтечу соборного храма, но и объехал весь север Руси, набравшись впечатлений и вдоволь насладившись его суровой экзотикой. Он оказался первым из иностранцев, посетивших такую дальнюю окраину тогдашней Руси. Это труднейшее путешествие было вовсе необязательным для архитектора, но его жаждал неугомонный ум творца.
Московляне имели возможность наблюдать Аристотеля в деле. Посмотреть было на что. Хотя бы на то, как лихо и хитроумно обрушил он остатки неудавшегося храма. Подопрет стены деревянными лагами, разберет внизу камень, лаги затем подпалит, стены и валятся сами собой.
А строить новый собор Успенья начал не сразу. Нашел, что белый здешний камень для объемного сооружения мягок и слаб, а следует наладить производство особого кирпича. Нашел также, что и раствор московский (известь) не клеевит и непрочен. Выучил здешних мастеров и кирпичу своему, и извести. И только после этого начал новый храм расти, зато уж как на дрожжах. Весной 75-го Аристотель прибыл, а к концу лета 1476 года стены уже вывели по киоты. Для большей прочности в них заложил железные связи. То же – и для устойчивости сводов: вместо привычных дубовых брусьев употребил кованые железные со штырями.
С легкой руки Аристотеля и “невзначайных” Софьиных капризов все смелее нарождались на Москве каменные строения. В 1479-м освятили Аристотелев храм *. Событие совпало с рождением у Софьи долгожданного сына-наследника. Вслед за Успенским, Иоанн Васильевич повелел заново перестроить придворный Благовещенский собор. А потом и Архангельский – усыпальницу московских великих князей.
По примеру новгородской грановитой палаты появилась таковая и на московском княжеском дворе и тоже за свои граненые стены стала называться Грановитой. Здесь вели торжественные приемы, встречали иноземных послов.
И для своего с Софьей бытования вместо деревянных хором, уступив супруге, устроил он каменные палаты.
Наконец принялся Иоанн Васильевич и за переделку кремлевских стен и стрельниц (башен).
Словом, по дорожке, проторенной Аристотелем с легкой Софьиной руки, поехали на Москву и другие итальянские мастера: Пьетро Антонио Соляри, строитель нового Кремля, Алевиз... Они несли к нам не только строительное искусство и технические премудрости, но и в целом идеи и дух итальянского Возрождения.
Пресловутая хронология событий, не раз уже терпевшая фиаско, подчас не выдерживает испытания логикой человеческого фактора, малоподвластной лукавому летописцу.
Взять трагедию вечевого Великого Новгорода. Избавимся на время от гипноза дат. Что видим мы до той поры, как появилась на Москве ромейская принцесса?
Как бы ни докучали великому князю новгородцы своими вечевыми вольностями, как бы ни ластились к литовскому великому князю Казимиру, Иоанн на свободу новгородскую прямо не посягал. Историки, скажем, Карамзин или Костомаров рисуют нам медлительного, неуверенного в себе правителя, то и дело прячущегося за спины то матери своей, то знатных бояр, то митрополита, Ни одного твердого поступка не стоит за ним. Он шлет Новгороду “опасные” грамоты и “увещания”, употребляет “миролюбивые средства”, изьявляет “горесть”, жалует врагов своих чинами... Словом, перед нами никакой еще не самодержец, а только великий князь Московский – хоть и с амбициями, но осторожный, готовый блюсти “старину”.
Даже послав Новгороду “складную” грамоту и решившись на войну с ним, Иоанн без конца молится над гробами святых угодников и предков своих, а первые его победы явно преувеличены и расцвечены летописцем.
Вот какую рисует он батальную картину на Шелони. Московского войска было пять тысяч, а новгородцев – от тридцати до сорока. Тем не менее Иоанновы воеводы бросились в воды Шелони с крутого берега в самом глубоком месте и никто из московлян не усомнился последовать их примеру, никто даже не утонул. Псковский летописец считает “чудом”, что войско воеводы Холмского перешло Шелонь там, где никогда не бывало броду. Надо ли говорить, что после таких чудес победа Иоаннова была предрешена?