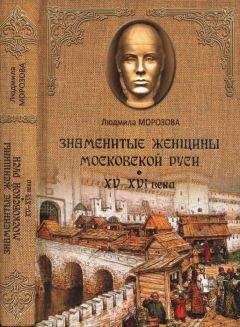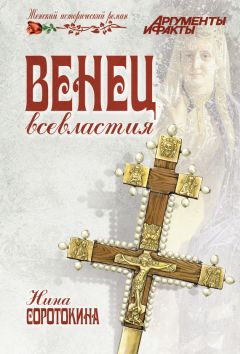Юний Горбунов - Софья Палеолог
Зоя дышать тогда перестала и готова была на куски разорвать “жениха”, как будто он это злополучное кольцо проглотил. Но обошлось.
Она потом поняла и одобрила поступок великого князя, но неприязнь к Ивану Фрязину преодолеть в себе не могла.
Быстро взрослела царевна на пути к Москве.
На дорогу между тем как-то сразу лег обильный снег. Тряскую колесную кибитку в Новгороде заменили санями, и кортеж принцессы уже приближался к Москве, когда однажды его неурочно остановили.
В санную кибитку, обшитую изнутри теплым войлоком, протиснулся Иван Фрязин. Кося глазами на смешливую боярыню, зашептал принцессе, вплетая в латинскую речь какие-то русские междометия.
Оказалось: от великого князя прибыл дьяк с требованием убрать с глаз долой латинский “крыж”. Иначе, мол, не примет их Москва. Легат, естественно, заупрямился и распятие не отдает. Не послать ли на Москву ее, Софьино, к князю челобитье в защиту униатской веры, в коей ведь и она, принцесса, пребывать изволит?
Иван Фрязин и минуты не ждал ответа. Но ему ли было знать, сколько в то мгновение пронеслось перед Софьей! Сиротская жизнь на Керкире, пока ее, бесприданницу, не высватал московский великий князь; неприкрытые ухмылки римских кардиналов, для коих она, наследница византийского престола, – лишь униатская приманка для Москвы... И теперь, когда счастье, наконец, улыбнулось ей вон тем добродушным, щедрым и пунцовым от вина ликом простоволосого боярина в распахнутой шубе, он, этот... этот ничтожный “денежник”...
– Противиться воле великого князя? – медленно спросила она и, не ожидая ответа, отвернулась, чтобы не видеть косящих глаз и не выдать свои. – Скажи легату Антонию, что здесь не его монастырь, что он на земле великого князя и царя московского.
Медленно покинул Иван Фрязин санную кибитку царевны. Медленно и неслышно прикрыл за собой дверь. Он понял – перед ним уже Московия. И маску пора менять.
Серебряное распятие, нагретое руками латинян, спрятали в сено саней. И кортеж по девственному снегу опять заскользил к Москве.
Утром другого дня распахнулись для Софьи Троицкие ворота Кремля. Был четверток – князев день недели. Когда Иоанн спешил делать дела, не откладывая. В четверток ему везло.
Сколько раз она потом воскрешала в памяти этот день. А целиком – все не удавалось. Только какие-то моменты, а между ними провалы, будто небыль.
...Громада белосерого Успенского собора, куда привезли ее на православное венчание. Внутри собор, как в сказке, обернулся маленькой деревянной церквушкой – жарко натопленной, желто-сливочной от свечей и икон.* Здесь она впервые и увидела великого князя, ничего в нем не запомнив и ничему не удивившись. Потому что это не она на него, а он на нее смотрел ревнивыми и настороженными глазами. Видно, что ожидал увидеть принцессу высокой и смуглой – как фрягиню. А ему явилась маленькая, полненькая, светловолосая и белокожая славянка. Софье сразу передалась мгновенная растерянность великого князя, и она извинительно улыбнулась ему:
“Да, да, это во мне Морея... Тебе же говорили, что в нас, морейцах, течет много славянской крови...”
И когда протопоп соединил их руки кольцами, поняла, что супруг, пожалуй, простил, пожалуй что принял ее славянскую наружность.
Кажется, после венчания ее представили матери великого князя и братьям его. Софья видела насупленные лица, силящиеся изобразить улыбку, но у нее как-то весело мелькнуло, что это ничего, что лишь бы Иоанн Васильевич...
Москва, нашептала ей потом боярыня, совсем на днях похоронила Иоаннова брата – Георгия.
Застолье было, но невеселое по случаю траура. Впрочем, столы ломились от яств.
Потом две молоденькие девушки заплетали и расплетали ей волосы, отвели в спальный покой, раздели, оставили одну.
Вошел Иоанн Васильевич и стал против нее. Он, слава Богу, не знал ни латыни, ни греческого, а она не умела по-русски. А то о чем бы говорить?
Софья как будто в смущении и растерянности перебирала волосы, лежащие теперь поверх перепоясанной рубашки. Она опять смотрела на себя его глазами и думала о себе его мыслями. Но страха уже не было. Уже была игра.
“Это даже лучше, что она такая... нашенская”.
Иоанн Васильевич сел на край разобранной постели. Софья тотчас, как научили, опустилась на колени и стянула легко подавшийся сафьяновый сапог, потом другой. Выпавшую на ковер монету зажала в ладони и лукаво отвела руку за спину. Не вставая с колен, смотрела на супруга снизу вверх чуть приоткрытыми влажными губами.
Она играла самозабвенно, видя и радуясь, что он принимает все за чистую монету.
“А ведь эта девка – греческая принцесса Палеолог, владычица византийской императорской короны!”.
Иоанн Васильевич протянул ей руку и помог встать.
“А я сейчас брошу ее на ложе и сделаю женой”.
Софья потупила глаза. Иоанн дернул за конец ее пояса, и он упал на ковер.
...Потом, уже ночью, Софья снова осталась одна. Горела свеча в высоком канделябре. Змеился пояс на полу. Она вспомнила и разжала ладонь. Золотой английский нобиль лежал на ней, загадочно поблескивая. Ладонь была в розовых отметинах. И Софья вдруг захохотала. Безудержно, от души, ничего и никого уже не опасаясь. Даже слезы выступили на глазах. Ей представилась жирная распаханная земля, какую знала она по легендам морейской Аркадии. Земля, готовая принять и вскормить любое зерно, брошенное в нее. Такой вот парящей жирной пашней предстала ей теперь ее страна, ее новая империя. И хохот, хохот так и тек из нее, облегчающий, уносящий страхи и неизвестность.
Весной следующего 1473-го, когда Софья была на пятом месяце, в Москве в очередной раз полыхнуло. Огонь занялся прямо на княжем дворе, едва ли не в хоромах великой княгини, и беременная Софья натерпелась страху.
Сгорело начисто и подворье всевладыки. Головешки еще дымились, когда скончался и сам митрополит Филипп.
Еще через год рухнул почти уже возведенный соборный храм Успенья Божьей матери. Тот самый, где венчали Софью. Едва уцелела уютная церквушка внутри него, стерегущая во время стройки святые гробницы. Вот так возьми да и развались северная стена на позор камнеделам московским. Счастье, хоть людей вблизи никого не оказалось.
По улицам Москвы ползли-змеились слухи, что не иначе как от заморской царевны, набравшейся в Риме латинской веры, идут сии напасти. На каждый роток не накинешь платок.
Софья на людях появлялась редко да еще взяла моду выезжать в повозке, чего московляне до сей поры не видывали.
Теперь они много были вдвоем. Иоанн Васильевич любил ее покои, ее опочивальню. Софья хотела, чтобы любил. Сначала невольно, а потом почуяв тяготение Иоанна Васильевича, она творила вокруг себя маленький ромейский мир памятной и любимой Мореи. Окружала себя нарочито нездешними вещами, мебелью, безделушками.
Ей нравилось делать Иоанну Васильевичу словно бы нечаянные сюрпризы и наблюдать за тем, как неумело старается он спрятать, не выказать свое удивление и тайную за нее гордость.
Так было, например, с креслом дивной работы болонца Аристотеля Фиораванти – свадебным подарком коронодержательницы Софьи венценосному супругу. Высокую, затейливо украшенную резьбой спинку сего трона венчал черный византийский двуглавый орел.____ Завернутое в холст кресло-трон проделало вместе с Софьей тысячеверстый путь через всю Европу.
Не вдруг велела Софья его развернуть и поставить на глаза Иоанну Васильевичу. Выбрала момент. После любимой им вечерней утехи. Вскочила в рубашке, оставив его на постели, откинула со спинки трона холстину и уселась, по-девчоночьи подогнув под себя ноги. Ночная свеча не абы где стояла – в ее неверном свете коронованные головы орла, забралом опущенные крылья, сильные когти, охватившие спинку, мерцали загадочно и державно. А белый комочек Софьи, ее текущие по плечам волосы и долу опущенные глаза являли саму Белую Русь-Московию в отеческом лоне царя-императора.
Иоанн Васильевич был поражен мизансценой, и долго царило молчание в опочивальне.
Софья вернулась в постель и набором немногих уже знакомых славянских слов поведала супругу о своем римском знакомце Аристотеле, мастере-строителе и пушечнике, коих свет еще не видывал. Что этот самый Аристотель у себя в Болонье не знамо, каким чудом перенес на 35 футов в сторону колокольню церкви св. Марка вместе с колоколами. А другую – св. Власия в Ченто, – что опасно отклонилась от отвесной линии, он умудрился выпрямить, не потревожив при этом ни одного камня.
Иоанн Васильевич, казалось, слушал вполуха, а сам завороженно смотрел на мерцающего орла о двух головах, будто перелетевшего к нему из покоренного турками Царьграда. Одна голова орла словно бы на Литву повернута, а другая – на Сарай. И сильные когти почти уже держат добычу...