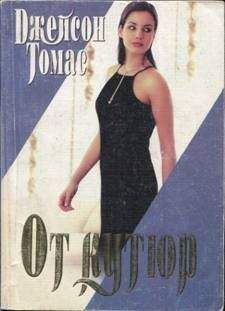Андрей Савельев - 1612. Минин и Пожарский. Преодоление смуты
Но мы вернемся к Герцену. Его фигура, его идеи и его судьба – прекрасная иллюстрацию смутного состояния самосознания у дворянства середины XIX века, ведущего праздный образ жизни, а к концу века выродившегося в просто тунеядствующее сословие.
Частная жизнь Герцена во многом предопределила направленность его мыслей и общественной активности. Его фамилия – искусственная, появившаяся в результате незаконного брака его отца – русского аристократа – на немке-лютеранке. Отец стал для Герцена первым испытанием – вплоть до своей кончины он давал юноше множество примеров тяготы семейной дисциплины, в которой было очень мало любви. Отец с его давящими всех окружающих повадками, с его злой иронией, с его праздностью, с его формальной, неискренней религиозностью, с его равнодушием к русской истории – все это олицетворило образ государства Российского, которое Герцен искренне ненавидел всю свою жизнь.
Александр Иванович Герцен
Брак Герцена был столь же противозаконен, как и его рождение. Женился он на двоюродной сестре, чей статус при вздорной тетке, опекавшей незаконнорожденное дитя, был не менее тяжек. Свою Натали Герцен выкрал из дому, совершив стремительный набег из ссылки. Романтика этого события перечеркивается иной «романтикой», которую Герцен по какой-то причине (возможно, от непреодолимой склонности литературного описания) не стесняется вынести на страницы своего мемуара «Былое и думы». Он описывает свой роман с замужней женщиной, в деталях анализируя свое душевное состояние от сознания измены другой женщине – оставленной в Москве невесте. Потом Герцен зачем-то фиксирует, пусть и кратко, свою измену жене с дворовой девкой и «психологическую болезнь», связанную с последовавшим резким снижением самооценки. Вряд ли эти фрагменты сочинения Герцена подобны публичному покаянию. В них больше литературной страсти, чем душевного подвига.
Расплата за измены и родственный брак пришла к Герцену значительно позднее – в эмиграции. Его жена-сестра была соблазнена немецким поэтом, которого Герцен принял в своем доме и долго терпел сначала как друга, а потом как ненавистного соперника. Как в наказание дети Герцена умирали в младенчестве, один из детей родился глухонемым, а потом вместе с матерью Герцена утонул во время шторма. После смерти жены Герцен перебрался в Лондон, где новой спутницей жизни стала жена его ближайшего друга Огарева. При этом дружеская связь не прервалась, а сам этот эпизод, в отличие от иных подобных, не был описан Герценом в мемуарах.
Политическая активность Герцена началась простым юношеским переживанием казни декабристов. Весь ужас образовался в душе будущего эмигранта только от полного незнания жизни и полного неведения того, что же представляли собой повешенные бунтовщики. Ненависть Герцена к Николаю I возникла позднее и потребовала переоценить юношеский максимализм, выставив его в более выгодном свете. Причина ненависти в том, что Герцен как зов к личной мести царю воспринял смерть своего новорожденного ребенка. Якобы, от испуга матери во время приезда жандарма, который громко гремел саблей. «Мертвящая рука русского самодержавия замешалась и тут, – и тут задушила», – пишет Герцен. И прибавляет: «Смерть малютки не прошла ей даром». Он мстил всю свою жизнь – как мог. И даже свою юношескую биографию переосмыслил как приготовление к мести.
Отец А. И. Герцена – Иван Алексеевич Яковлев
Своей ненависти Герцен посвятил немало строк публицистики. А также свой фантастически циничный восторг от смерти Николая I: «Не помня себя, бросился я с „Таймсом“ в руках в столовую, я искал детей, домашних, чтоб сообщить им великую новость, и со слезами искренней радости на газах подал им газету…» Друзья дома разделили эту радость: «Ну, наконец-то, он умер!» Герцен: «Я велел подать шампанского», «знакомые приходили, уходили с сияющим лицом».
В своем сочинении Герцен переносит личное мстительное ликованье на окружающих иностранцев, которые вряд ли разделяли его восторг: «…я не видал ни одного человека, который бы не легче дышал, узнавши, что это бельмо снято с глаз человечества, и не радовался бы, что этот тяжелый тиран в ботфортах наконец зачислен по химии». И тут же переход к политическим проблемам: «Сметь Николая удесятерила надежды и силы. Я тотчас написал напечатанное потом письмо к императору Александру». Надежды на просвещенность нового императора быстро испарились – вместе с подавлением очередного польского восстания. Но в этот период герценский «Колокол» приобрел известность в России и даже благосклонно читался во дворце. Это были пять лет, в которые Герцен «развернул революционную агитацию», как писал Ленин. Объемы агитации были смехотворны – в лучший период тираж «Колокола» не превышал 2500 экземпляров.
Ненависть к царю затмевала сознание Герцена. Он писал о восстании декабристов: жаль, что картечь не расстреляла медного Петра. Ему хотелось символического наказания самодержавия за свою изломанную судьбу и беспросветную жизнь на чужбине. Он не замечал, что все его претензии к Николаю I – юношески пылки и несправедливы. Он не замечал, что его политические ссылки не имеют ничего общего с судьбой кандальников. Он не видел, что Государь лично вникает в ребячьи шалости вчерашних студентов, грозящие стать опасными крамолами, и останавливает зарвавшихся юнцов. Он не понял, что не имел никаких стеснений в службе Отечеству. В поисках понимания Герцен бежал за границу, где не нашел ничего, из того, что искал – ни революции, ни свободы, ни дружбы, ни любви. Но за границей он окончательно потерял Россию.
Всю свою жизнь Герцен расплачивался за неприспособленность к повседневному труду и за юношеские мечтания. У него было множество случаев найти себе поприще, службу. Обе его ссылки были всего лишь формой государственной работы – он был несвободен лишь в выборе места службы. Служба у образованного молодого человека шла успешно и в немалых чинах. Если бы только он научился смирять свою натуру, он сделал бы для русского народа, за который переживал остальную жизнь, немало полезного. О некоторых позитивных опытах службы он оставил след в своих воспоминаниях. Чем же должна была закончиться служба, если в ответ на благосклонность губернатора Герцен надерзил ему: «Я, улыбаясь, заметил ему, что меня трудно испугать отставкой, что отставка – единственная цель моей службы, и прибавил, что пока горькая необходимость заставляет меня служить в Новгороде, я, вероятно, не буду иметь случая подавать своих мнений»?
И на что же променял Герцен службу Отечеству, что он так искал за границей, куда выехал без препятствий? Романтическую чепуху: «Кто не слыхал «Марсельезы», петой тысячами голосов в том нервном раздражении и в том раздумье, которое необходимо является перед известной борьбой, тот вряд ли поймет потрясающее действие революционного псалма».
Герцен сам многократно признавал ничтожность кружка своих единомышленников: «Проповедовали мы везде, всегда… Что мы, собственно, проповедовали, трудно сказать. Идеи были смутны, мы проповедовали декабристов и французскую революцию, потом проповедовали сен-симонизм и ту же революцию, мы проповедовали конституцию и республику, чтение политических книг и сосредоточение сил в одном обществе. Но пуще всего проповедовали ненависть к всякому насилью, к всякому правительственному произволу». «Вся наша жизнь была посильным исполнением отроческой программы».
Попытки философствования на «птичьем языке» с возрастом вызывали у Герцена самоиронию. «Никто в те времена не отрекся бы от подобной фразы: “Конкресцирование абстрактных идей в сфере пластики представляет ту фазу самоищущего духа, в которой он, определяясь для себя, потенцируется из естественной имманентности в гармоническую сферу образного сознания в красоте”. Замечательно, что тут русские слова, как на известном обеде генералов, о котором говорил Ермолов, звучат иностраннее латинских».
Но, вновь очаровываясь философскими странностями, Герцен возвращается к истокам своей неприкаянности и ненужности в России. Для него «философия Гегеля – алгебра революции, она необыкновенно освобождает человека и не оставляет камня на камне от мира христианского, от мира преданий, переживших себя». Ничего толком не поняв в Гегеле, который вовсе не отрекался от христианства, Герцен признается в этом лишь косвенно, полагая, что гегелевская философия «может с намерением, дурно формулирована».
В разительном противоречии с гегелевской философией, Герцен пытается определить свое политическое кредо, свою приверженность социализму: «одна вещь узнана нами и не искоренится из сознания грядущих поколений, это – то, что разумное и свободное развитие русского народного быта совпадает с стремлениями западного социализма»; «…либерализм, последовательно проведенный, непременно поставит человека лицом к лицу с социальным вопросом». Весь этот небогатый запас произвольных умозаключений пришлось отбросить в эмиграции, столкнувшись с реалиями революционного движения и отвратительными картинами склок меж никому не нужными революционерами.