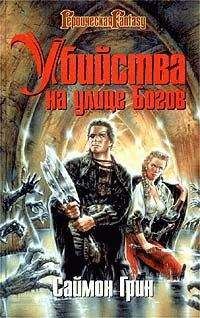Валентина Брио - Поэзия и поэтика города: Wilno — װילנע — Vilnius
Композиция третьей-четвертой частей строится сходным образом (хотя ритмический рисунок ее совсем иной; ритмическое разнообразие всех частей поэмы вообще велико). Перед нами некая процессия:
С флейтами, с факелами
и барабан бум-бум,
о, тот, что умер над Босфором, там впереди.
Свою панну под ручку сюда ведет
И ласточки над ними летают.
Несут весла и прутья, листьями овиты
и от Зеленых озер букеты
Все ближе по улице Замковой —
и уже ничего, лишь облако стоит
над Секцией оригинального творчества
Кружка полонистов.
Возглавляет шествие Мицкевич (как известно, он умер в Константинополе) с Марылей Верещак, юношеской своей любовью. А рядом — реалии из юношеских походов и литературных занятий автора. Эта удивительная процессия соединяет филоматов и товарищей поэта из Клуба бродяг в некое карнавальное шествие, очень, кстати, уместное в Вильно. А весла, прутья, букеты у них общие, как и улица Замкова, что рядом с университетом.
В четвертой части, состоящей из одного четверостишия, перед читателем предстают своеобразный итог и переключение из карнавальности и юношеского веселья в серьезный регистр подведения итогов, автор словно оглядывается назад на длинную вереницу людей, уходящих вглубь — памяти, времени, истории.
А книг мы целую библиотеку написали.
А стран — не измерить — исколесили.
Битв много-много мы проиграли.
И вот нет ни нас, ни Марыли.
Милош — непростой поэт, и порою к его стихам просто необходим реальный комментарий. Может быть, поэтому он охотно давал его сам: «Это стихотворение интересно потому, что здесь некая идентификация с Вильно XIX века, показана некая непрерывность Вильно. Марыля, филоматы, полонисты, наши годы и университет начала предыдущего столетия — построение такого моста вполне оправданно, по моему мнению»[236].
В пятой части в коротких стихах поэтические перечислительные ряды, короткие сценки (живущие в стихотворении скорее номинально — «поклоны в солнечном свете после мессы») и аллюзии, стилистика сентиментального мадригала XVIII века продолжают ту же «непрерывность», в то же время напоминая о грозных событиях XX века. Перед нами игра, литературность, но не идиллия (сразу введен диссонанс), а с другой стороны — ощутимо предчувствие грядущих катастроф, которое было свойственно в те годы поэту и его литературному окружению.
Жалость и пониманье
высоко мы ценим,
Ну и что?
Мощь тела и слава,
поцелуи и «браво»,
Кому все?
Медики, правоведы,
бравые офицеры
в черной яме.
Меха, ресницы, браслеты,
Поклоны после мессы.
Отдохновенье.
Доброй ночи, перси нежные,
Пусть снятся вам сны блаженные,
без боязни.
В шестой части оживает масонская ложа «Усердный литвин» и опять стерты границы эпох.
Заходит солнце над ложей Усердного Литвина
И зажигает огни на портретах с натуры.
Там сосны Вилия обнимает, и черного меду несет Жеймяна,
Меречанка спит в ягодниках у Жегарина.
Но подсвечник тебанский внесли лакеи
И на окнах задвинули за портьерой портьеру.
И когда, снимая перчатки, подумал: пришел я первым,
Увидел, что все глаза устремлены на меня.
Такая ложа действительно существовала. Но у Милоша это понятие используется «в смысле заговора элиты, в которую надо быть принятым… „Ложей“ этого рода был Академический клуб бродяг, в котором я оказался сразу после поступления в университет; а несколько позже… таким же был К. И., то есть Клуб интеллектуалов… В этих „ложах“ я вижу романтическое наследие — мечту о спасении человечества „сверху“, с помощью „просвещенных умов“»[237].
Шестая-седьмая части обозначили какой-то центр, перелом. Принадлежность к масонской ложе здесь условна, как принадлежность к особому виленскому братству, а может быть, и духовная принадлежность двум мирам. Эта двойственность высказана прямо в седьмой части — «время меня надвое разделяет» (с. 171): на «здесь» и «там тогда».
Когда позабыл я жалость,
и то, что гнался за славой,
и о том, чем быть не пытаюсь,
Над горами, землей, потоками
Несли меня грифы и смоки,
Случайности и зароки.
Да, быть собою хотелось,
В зеркальную муть гляделось
На глупость, что слетела.
<…> Монументы в снегу сияют.
Знать хочу, что мой дар принимают.
Бродил я, а где — не знаю.
Поэт подчеркнул, что «быть собою хотел». Исповедь, счеты и требования к себе, размышления о своем даре и призвании тоже ведь начинались в этом городе. Это двойное видение отражено и в последующих стихах: калифорнийский свет вызывает в памяти «низкий свет как в краю березы и сосны» поздней осенью, когда «галки кружат над башней Базилианского костела» (девятая часть, с. 172). Здесь отдельные картинки, и обобщение и детализация, и телесность провинциальной жизни в Литве, — что сохранит память?
Не выразить, не рассказать.
Как?
О, краткость жизни,
годы бегут все быстрее,
и не вспомнить: то было в ту или в эту осень.
Дальше речь идет о ярмарке над рекой — «не последний суд, а кермаш над рекою» — виленский кермаш со «сморгоньскими баранками», знаменитыми «пальмами», свистульками, гаданием; конечно, это яркая веселая весенняя торговля «на Казюка» в Вильно (одиннадцатая часть).
Поэма «Город без имени» очень богата стилистически и ритмически. В заключительной части Милош использовал форму версе — строфику, ориентированную на ритмическую модель библейского текста. Для Милоша это закономерно: «Форма библейского версе привлекала меня еще в молодости. Это было для меня какой-то надеждой, возможностью выхода за пределы метрической системы и возможностью большего охвата картины мира. Я думал о переводе Библии довольно давно»[238]. Версе чаще определяют как «строфически организованную прозу, внешне напоминающую стих» (иногда с оговорками о возможности рассмотрения версе и как собственно стиха), как прозиметрический текст[239]. Для Милоша это не вполне так. Он настаивал: «Мои стихи всегда имеют довольно сильно выраженный ритмический рисунок. Разность языков — интереснейшее явление. Русский, когда переводит стихотворение без рифм, словно глупеет. Для него это проза, он не чувствует деликатного волнения каденции. Вот Бродский это чувствует. Поэтому может меня переводить»[240].
Заключительная, двенадцатая часть поэмы начинается с прихотливого образа-сравнения:
Почему лишь мне только вверяется этот город беззащитный
и чистый, словно свадебное ожерелье забытого племени?..
<…>Чем заслужил, каким во мне злом, какою милостью,
такое пожертвование?
Сравнение, как объяснил Милош, навеяно индейской деревней в Аризоне — историческим аутентичным памятником, сохраняющимся на протяжении семи веков. Это характерный для Милоша образ памяти как музея, хранилища аутентичных предметов и документов, весьма подходящий и для характеристики Вильно у поэта. К образу музея как «специфической репродукции мира» обращается и философия, понимающая Музей в качестве «медиума между человеком и культурой». С ним изначально связывается философская идея реализации целостности в социокультурном процессе: «Его экзистенциальный смысл состоит в том, чтобы избавить человека от исторического одиночества, от страха перед смертью»[241]. Для всей концепции памяти и воспоминания-воссоздания Милошу важно было подчеркнуть то, что и вещественные следы прошлого сохраняются долго. А через несколько строк возникает ключевой образ города, квинтэссенция его видения. Если бы кто-то захотел сказать о милошевском Вильно одной фразой, — вот она:
Стоит предо мною цельный, ни в одном дыме из трубы
нет недостатка,
ни в едином эхе, когда переступаю разделяющие нас реки.
<…> Здесь нет ни раньше, ни позже, все времена
дня и года длятся одновременно.
Принципиально важна здесь цельность образа города: недаром Милош писал в письме к Томасу Венцлове о Иерусалиме псалмопевца как городе «слитом воедино», — именно это из многочисленных определений Иерусалима в Книге Псалмов (которую он, кстати, переводил) виделось поэту наиболее близким его собственным представлениям о Вильно.