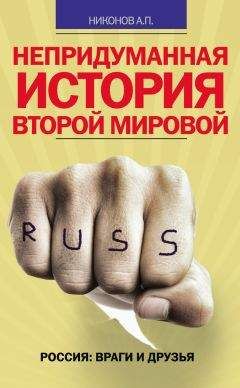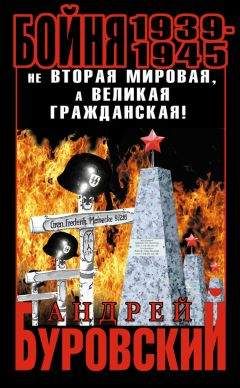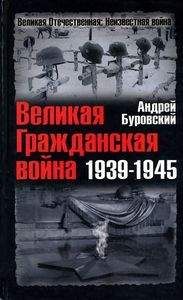От Второй мировой к холодной войне. Немыслимое - Никонов Вячеслав
В июле 1944 года парламент вынес вотум недоверия Пибунсонгкраму, который сохранил и после этого должность главнокомандующего. Премьером стал Куанг Апхайвонг, который мог рассчитывать и на 150-тысячную японскую армию, развернутую в Таиланде.
С начала 1945 года американцы уже регулярно бомбили Таиланд, делая основной упор на Бангкок. «Свободный Таиланд» готовил антияпонское восстание, но его пришлось отменить из-за прямого запрета британского военного командования, не собиравшегося и здесь создавать условия для успехов коммунистов.
В конце войны заявила о себе организация Свободное Таи, которой покровительствовали США и стоявший в оппозиции к правительству регент Приди (малолетний король находился в Швейцарии). Таиланд быстро переметнулся в лагерь победителей.
Когда Япония капитулировала, 17 августа Апхайвонг подал в отставку. Парламенту ничего не оставалось, как избрать премьер-министром 17 сентября доставленного из Вашингтона Сени Прамота, который имел наилучшие рекомендации от Трумэна. В честь такого события краткосрочный визит в свою страну нанес давно там не появлявшийся король Ананда Махидон. В декабре 1945 года он окончательно вернется в Таиланд.
Сразу по окончании войны Приди от имени короля официально заявил, что не подписывал формального объявления войны Англии и США и поэтому считает данный акт неконституционным. В Вашингтоне ответили, что и не относились к Таиланду как к воюющей стороне.
В Лондоне были иного мнения. «Британцы хотели наказать Таиланд и доминировать в нем, особенно для того, чтобы обеспечить поставки таиландского риса в свои разоренные колониальные территории, – замечают историки этой страны Крис Бейкер и Пасук Фонгпайчит. – США, однако, были против возвращения колониальных влияний и дали понять, что к Таиланду следует относиться как к стране, оккупированной врагом… В конце концов британцы были удовлетворены компенсацией, выплаченной рисом, а США настояли на возращении территории Таиланда к довоенным границам». То есть страна отдала территории Камбоджи, Лаоса, Бирмы и Малайи, а компенсация выплачивалась за понесенный англичанами экономический ущерб в результате незаконного использования ее колоний и протекторатов.
Таиланду удалось сохранить свой независимый статус и стать членом ООН. Страна была снова переименована в Сиам.
Были приняты законы о наказаниях за военные преступления и преступления против человечества. Парламент запретил деятельность всех политических партий, что должно было не столько избавить страну от прояпонских сил, сколько не дать подняться коммунистам.
Впрочем, вскоре Куанг Апхайвонгу было позволено основать Демократическую партию, положившую в основу своей идеологии преданность королю, национализм и консерватизм в социальных вопросах. Но на выборах в январе 1946 года его сторонникам досталось только 18 мест в парламенте из 82-х. А 57 мандатов получили сторонники Приди Паномионга – прежние активисты Народной партии и участники антияпонской оппозиции. Паномионг и стал премьер-министром.
Пибунсонгкрам в апреле 1946 года предстал перед судом военного трибунала, который признал его невиновным в военных преступлениях.
В послевоенные годы постепенно разрешалась деятельность партий и профсоюзов, но только не компартии, которая продолжала существовать на нелегальном положении. Правительство Таиланда, теснейшим образом сотрудничавшее с США, занимало жесткую антикоммунистическую позицию. В стране как-то сразу появились американские военные базы. США обрели еще одну полуколонию.
Как бы то ни было, именно Вторая мировая война и ее итоги положили начало обретению Юго-Восточной Азией независимости от многовековой власти западных колонизаторов. Движение Сопротивления, родившееся в борьбе против японских оккупантов, глубоко вошло в плоть и кровь народов. И борцов за независимость уже не могли остановить прежние хозяева из Англии и Франции, Голландии и США, как бы ни стремились они сохранить свое господство. Те самые хозяева, которые давали СССР уроки демократии.
Глава 17. Новые надежды и миражи
Московское совещание министров иностранных дел
Московское совещание в декабре 1945 года оказалось более конструктивным, чем лондонское в сентябре. Но не все так думали.
Стоило Бирнсу отправиться в Москву, как в Вашингтоне забеспокоилось антисоветское лобби. 14 декабря сенатор Том Коннелли попросил Трумэна встретиться с ним и другими членами сенатского комитета по атомной энергии. «Бирнс, как выяснилось, накануне встречался с несколькими сенаторами и сообщил им, что он намерен добиться согласия России на предстоящее обсуждение предложения о создании комиссии по атомной энергии при ООН, то, о чем Эттли, Маккензи Кинг и я договорились в прошлом месяце, – писал Трумэн. – Члены сенатского комитета были очень обеспокоены беседой, которая состоялась у них с государственным секретарем. Они заявили, что у них сложилось впечатление, что он планирует обсудить и, возможно, согласиться на обмен определенной информацией по атомной энергии еще до того, как будет достигнуто какое-либо соглашение о гарантиях и системе контроля против злоупотребления такой информацией.
Я сразу же сообщил сенаторам, что администрация не намерена ни разглашать какую-либо научную информацию во время московской конференции, ни давать там никаких окончательных обязательств по обращению с такой информацией. Я ясно дал понять, что не собираюсь раскрывать никакие сведения о самой бомбе до тех пор, пока американский народ не будет уверен в том, что существуют адекватные механизмы контроля и гарантии безопасности».
Трумэн поручил заместителю госсекретаря Ачесону подготовить для Бирнса сообщение об этой встрече с сенаторами.
«Президент, – телеграфировал Ачесон, – ясно дал понять, что любые выдвинутые предложения следует адресовать сюда до того, как будет достигнуто соглашение, и что он не намерен раскрывать какую-либо информацию о бомбе в настоящее время или до тех пор, пока не будут выработаны механизмы инспекции и гарантий». Ответ госсекретаря придет 17 декабря: «Я не намерен выдвигать никаких предложений вне рамок декларации трех держав».
Беспокоились в связи со встречей министров антисоветчики в американском посольстве в Москве, прежде всего Джордж Кеннан, который напишет: «Скажу откровенно, я воспринял эту встречу с таким же чувством скептицизма и отчуждения, как и другие встречи глав правительств. Я не верил в возможность добиться каких-то демократических решений в условиях откровенного сталинского господства в Восточной Европе. Я никогда прежде не встречался с мистером Бирнсом и не общался с ним. Я не находил смысла в попытках спасти все, что еще осталось от Ялтинской декларации об освобождении Европы. По моему мнению, не имело никакого смысла также участие некоммунистических министров в правительствах ряда восточноевропейских стран, находившихся под полным советским контролем. А потому для меня было совершенно абсурдным сохранение видимости трехстороннего единства. Отсюда чувство бессмысленности моих собственных действий по выполнению поручений, связанных с визитом нашего госсекретаря в Москву в декабре первого послевоенного года».
Бирнс прилетал 14 декабря. Кеннан с содроганием вспоминал: «Мы ожидали прибытия госсекретаря. Однако из-за страшной метели, как нам сообщили советские метеорологи, аэропорты не принимали самолетов. Около полудня кто-то из работников МИД сообщил нам, что самолет госсекретаря час назад вылетел из Берлина. Однако военные и работники аэропорта об этом ничего не знали. В 1.30 пришел Аткинсон и сказал, что ему сейчас сообщили из английского посольства, будто самолет повернул обратно на Берлин. Решив, что так оно и есть, я отправился обедать. А когда вернулся, то застал одного из наших атташе, беседовавшего по телефону с растерянным представителем МИД, который утверждал, что самолет госсекретаря вот-вот должен приземлиться в центральном военном аэропорту… Мы с Горасом Смитом сели в машину и отправились в центральный военный аэропорт. На улице бушевала метель и видимость была скверной. Однако, когда мы добрались до аэродрома, там уже стояло несколько русских автомобилей. Нас провели в какое-то служебное помещение. Через несколько минут мы услышали гул моторов и увидели четырехмоторный самолет, пролетевший над зданием, в котором мы находились. Мы побежали на летное поле. Метель улеглась, и видимость улучшилась. Мы увидели Деканозова, одного из заместителей министра иностранных дел, вышедшего встречать самолет с каким-то подручным, в сопровождении эскорта сотрудников НКВД. Самолет, каким-то образом все же приземлившийся, проехав по летному полю, остановился почти рядом с нами. Госсекретарь, в легкой куртке и легких ботинках, стоя в глубоком снегу, произнес в микрофон приветственную речь под вой ветра. После этого я усадил его в машину вместе с Коэном и военным атташе и тут же отвез в резиденцию посла, где его дочь угостила их обедом».