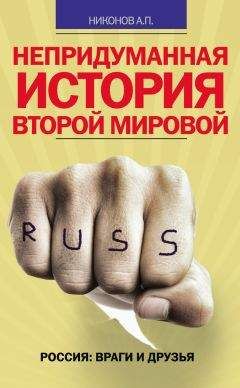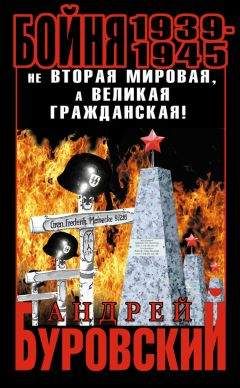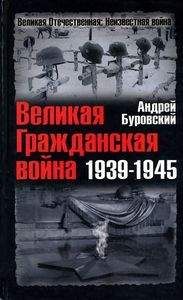От Второй мировой к холодной войне. Немыслимое - Никонов Вячеслав
Осколки голландской и американской империй
Индонезия до войны уже три века была самой большой голландской колонией. Еще в 1937 году борцы за независимость Голландской Ост-Индии сумели преодолеть разногласия и добиться единства действий. Лидеры радикального крыла Национальной партии (НПИ) и коммунисты объединились в рамках Движения индонезийского народа (Гериндо). Многие руководители движения оказались в тюрьме. И они не вышли на свободу после того, как сами Нидерланды летом 1940 года были оккупированы немцами.
В августе 1940 года перебравшееся в Лондон правительство заявило о неизменности правового статуса Голландской Ост-Индии. Колониальная администрация сохранила лояльность правительству в изгнании, не собираясь ничего менять и поддерживая связи с британскими военными. Только в мае 1941 года королева Нидерландов Вильгельмина, выступая по лондонскому радио, туманно намекнула на возможность установления «новых отношений» между Голландией и «ее Индией» после окончания мировой войны.
Борцы же за независимость Индонезии не намеревались ждать милостей от колониальных властей. В сентябре 1941 года второй Конгресс индонезийского народа, представлявший большинство местного населения, провозгласил себя Народной ассамблеей – своего рода парламентом, который будет работать до проведения выборов.
Главным богатством Индонезии считалась нефть, страна была ее экспортером номер один в Восточной Азии. За нефть и развернулась борьба держав. Высокую заинтересованность в ней проявляла Япония, особенно после того, как в октябре 1941 года Рузвельт ввел эмбарго на поставку американской нефти агрессорам (что, помимо прочего, подтолкнуло японцев к войне с США).
Уже через неделю после Перл-Харбора – 14 декабря 1941 года – японские войска десантировались на севере острова Борнео, где располагались основные индонезийские нефтепромыслы. Силы союзников на островах Зондского архипелага по своей численности никак не уступали японским экспедиционным силам, но с вооружением и боевым духом дела обстояли хуже.
Япония объявила войну Голландии 10 января 1942 года. В битве в Яванском море в конце января японцы уничтожили объединенный голландский, британский, австралийский и американский флот. Бои же на островах длились два с половиной месяца. Англичане больше думали о том, как удержать Сингапур и Малайю, американцы ограничились символической помощью. Голландцам воевать было почти нечем. После высадки японских войск на Яве 28 февраля главный и самый густонаселенный остров Ост-Индии был сдан фактически без сопротивления.
Союзники потеряли убитыми 2,5 тысячи солдат и офицеров, японцы – 650 человек. В плен попали 65 тысяч голландских военнослужащих, 25 тысяч бойцов союзников, было интернировано 80 тысяч граждан западных стран. Индонезийцы не оказали колониальным властям никакой поддержки. 8 марта 1942 года голландский генерал-губернатор сдался в Батавии (как голландцы называли Джакарту), колониальный режим пал. Голландцы и индонезийцы успели к этому времени взорвать буровые установки. Взбешенные победители в отместку немедленно казнили многих пленных.
Японцы сделали несколько вещей, которые потом пригодятся Индонезии в ее борьбе за независимость. Во-первых, они уничтожили голландскую колониальную администрацию. Во-вторых, они запретили использование голландского и английского языков в системе образования. Пока народ только учил японский, преподавание перешло на индонезийский, как и делопроизводство. В-третьих, японцы проводили военную подготовку молодых людей, комплектуя марионеточные воинские части. Именно они и составят в будущем костяк индонезийской армии.
Наконец, японцы освободили из тюрем борцов с голландским колониальным режимом. Без этого им было бы сложно управлять огромной страной.
Индонезия превосходила Японию по площади – почти 2 млн кв. км – в пять с половиной раз. И не уступала по численности населения – 75 млн человек. Японцам, действовавшим и кнутом, и пряником, хотелось предстать в качестве освободителей от колониального ига и тем обелить собственный колониальный режим. Первое время этому склонна была верить некоторая часть населения. Открытого сопротивления японцам индонезийцы поначалу не оказывали – в отличие от жителей Французского Индокитая.
Японцы освободили из тюрем и ссылки видных деятелей НПИ, включая ее лидера Сукарно, который отбывал наказание в тюрьме на острове Флорес и был перевезен японцами на Яву. Там же японцы организовали его встречу с Мохаммадом Хаттой и Сутаном Шариром, которые ранее возглавляли соперничавшее с НПИ движение Индонезийского национального просвещения (ИНП), а затем отбывали ссылку в Новой Гвинее. Японцы предложили им договориться о совместных действиях, основой для которых стали слова Сукарно: «Мы с вами посеяли семена независимости, пусть теперь японцы их выращивают».
Сукарно никоим образом не сотрудничал с коммунистическим движением. Громыко напишет: «Сукарно, конечно, не связывал свои идеи с социалистическим мировоззрением и отнюдь не преследовал целей способствовать социалистическому преобразованию общества. Держа в своих руках знамя национальной независимости, он одновременно защищал интересы национальной буржуазии».
Сукарно и Хатта, разделяя идеи «Азии для азиатов», пошли на сотрудничество с японской администрацией. Они помогли мобилизации индонезийцев на выполнение разного рода работ в интересах японской армии. Шариф же, похоже, по согласованию с коллегами, занялся организацией подпольного Сопротивления. Над тем же уже работал Амир Шарифуддин Харахап, имевший связи с коммунистическим подпольем. Коммунистическая партия Индонезии (КПИ) оставалась бескомпромиссной силой, противостоявшей японской оккупации. На Шарифа руководством НПИ и ИНП была возложена задача присматривать за Шарифуддином, чтобы не допустить перехода контроля над движением Сопротивления к коммунистам.
В рамках создания системы политического контроля японцы разрешили в марте 1943 года сформироваться национальной партии Центр народных сил (Путера). Сукарно стал ее председателем, а заместителями Хатта и два исламских деятеля – Мансур и Деванторо. Почти одновременно началось формирование местного ополчения под названием ПЕТА («Защитники Отечества»). К 1945 году в его рядах будет числиться около 40 тысяч человек. На ПЕТА возлагалась задача обороны побережья от возможной высадки англо-американцев.
Благодушие или равнодушие индонезийцев к японцам сменялось ненавистью довольно быстро. Экономика Индонезии деградировала. Природные ресурсы – нефть, каучук, олово, бокситы – текли в Японию. Печатавшаяся оккупационными властями валюта котировалась в 2,5 % от номинала. Производство продовольствия для внутреннего рынка упало, начался голод.
Осуществлялась программа «ромуша», в соответствии с которой все трудоспособные мужчины обязаны были бесплатно работать для целей войны. Строили железные дороги, шоссе, корабли. Сотни тысяч индонезийцев отравили на строительство бирмано-таиландской железной дороги и на другие японские проекты по всей Юго-Восточной Азии.
Контролировать население становилось возможным только путем террора. К концу войны Индонезия недосчиталась 6 % своих жителей – 4 миллионов мирных граждан, которые стали жертвами японского оккупационного режима. Любые проявления несогласия карались исключительно смертной казнью.
Однако по мере того, как Япония стала терпеть поражения на фронтах войны, в Токио росло стремление ослабить колониальную хватку. В сентябре 1944 года премьер-министр Японии заявил в парламенте, что Индонезии будет предоставлена независимость – после победы Японии во Второй мировой войне.
Но система японской власти в Индокитае стала сыпаться задолго до капитуляции. В феврале 1945 года в провинции Восточная Ява восстал целый батальон ПЕТА. Сукарно и его соратники предпочли не форсировать события и постарались не допустить перерастания отдельных выступлений в массовую войну против захватчиков.