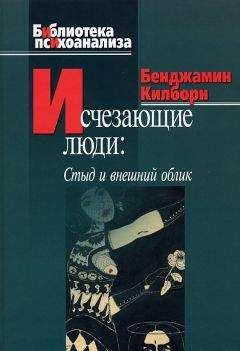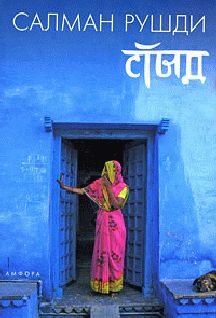Книга стыда. Стыд в истории литературы - Мартен Жан-Пьер
Что говорит нам Дюрас в начале «Любовника»? Она говорит, и говорит, и говорит нам, что ей пятнадцать с половиной лет. Что она стыдится своей матери. Что она не будет на нее похожа. Что ее, «малышки», лицо уже предвещает то, кем она будет, когда станет взрослой: писателем. Не потому, что она уже что-нибудь пишет, а потому, что это уже написано на ее теле: достаточно надеть на голову совсем юной девушки мужскую шляпу с плоскими полями, «мягкую фетровую шляпу цвета розового дерева, с широкой черной лентой», добавить к ней платье без рукавов с глубоким вырезом и пару туфелек из золотой парчи на высоких каблучках — и дело почти что сделано, потому что она, эта шляпа, меняет все, и отныне лицо несет на себе физический отпечаток страсти к писательству; потому что вскоре, через два или три года, это лицо станет лицом алкоголички (хотя оно «состарилось еще до того, как я начала пить»); потому что писать значило всем телом восставать против окружающей стыдливости: «Когда я начала писать, моя среда волей-неволей навязывала мне стыдливость. Окружавшие меня люди считали писательский труд все же нравственным занятием». Наконец, потому, что обо всем этом можно будет рассказать только после смерти близких, в этом «после», свободном от их взглядов[66].
Вот как стареющая писательница описывает (или выдумывает) «малышку», которой она была: «Пятнадцатъ с половиной лет. Тело худенькое, почти тщедушное, еще детские груди, бледно-розовая пудра и яркая помада. И наряд, который мог бы вызвать смех, однако никто над ним не смеется. Я знаю: в этом я вся. Пока ничего не ясно, но в моем образе уже есть все, чему суждено сбыться, я вижу это по глазам людей, в их глазах — моя судьба. Я хочу писать. Я уже сказала матери: единственное, чего я хочу, — это писать. Сначала она не ответила. Потом спросила: что писать? Книги, романы, сказала я».
Момент, когда заявляет о себе писательское призвание, соответствует этому облику девочки-подростка, открывающей в себе другое тело — хочется сказать «другой пол» или просто «пол», — тело, освобожденное от принужденности, которую навязывает миру его собственная непристойность («даже… ммм… оригинально…» — мужская шляпа на голове совсем юной девушки), тело, которое вскоре станет писательским телом — если только научится выдерживать взгляды других. Малышка только ищет свой стиль, писатель будет живописать ее все более и более обнаженной, «задыхающейся от волнения», но уже есть эта мужская шляпа, с которой тело совсем юной девушки никогда больше не расстанется, шляпы, которая выставляет напоказ и скрывает, которая «не идет к детской фигурке», шляпа-секси, свидетельствующая об отсутствии самой себя, о внешности, созданной взглядами других.
Против всякого ожидания, мать ласково смотрит на девочку в шляпе и туфельках из золотой парчи, на ее «наряд маленькой проститутки»: «У девочки богатая фантазия, думает она, совсем неплохо — надо же придумать так одеться». В романе «Любовник» эта шляпа, этот «шутовской, почти неприличный наряд», одобренный матерью, растягивается на многие страницы: ведь эта невероятная шляпа знаменует собой грядущий уход, окончательный уход дочери, с которым мать в конце концов примирилась, — прочь из Индокитая, навстречу безбрежному морю литературы.
О том, что язык — это что-то вроде симбиоза тела и одежды (более или менее обнажен, более или менее закутан), мы знали и раньше. Но литература необязательно была в этом отношении вопросом стыдливости-бесстыдства, облачения, шутовства или чванливости, способом выставить себя напоказ. Между тем именно это утверждается в начале «Любовника» в качестве своего рода манифеста, продолжение которому можно найти в главке под названием «Тело писателей» из книги «Материальная жизнь»: «Тело писателей напоминает их сочинения. […] Писатели вызывают сексуальное влечение по отношению к себе. […] Я никогда не могла помыслить себе сексуальность без ума и ум без некоторой самоотрешенности».
Историю творчества Дюрас можно представить себе как постоянное, и даже все более интенсивное, превращение стыда в бесстыдство — пресуществление, никогда не достигаемое вполне, непрерывное сражение. В первую очередь она показывает глубокую взаимосвязь, взаимообратимость стыда и бесстыдства. Дюрас может утверждать, с одной стороны: «Писать — это смирение», — а с другой: «Люди, которые говорят, что не любят своих книг, если такие бывают, — это люди, которые не смогли преодолеть притягательность унижения». Ее лицо, подобно лицу пьяной Анны Дэбаред, мало-помалу исказила «гримаса […] признания в какой-то постыдной, непристойной тайне»[67]. Но признания в чем? Что можно по-настоящему раскрыть в тайне мироздания? Жизнь, или, точнее, «медленный труд», могла бы дать возможность начать приближаться к этой тайне, равно как и к ненависти, ибо «за порогом ее [ненависти. — Прим. ред.] начинается молчание». 1984 год. Дюрас уже порядком продвинулась на пути этого «медленного труда», и все-таки она пишет: «Эти одержимые дети так и стоят у меня перед глазами, но я не могу приблизиться к тайне. Я всю жизнь думала, что пишу, но не писала, думала, что люблю, но не любила, всю свою жизнь я только ждала перед закрытой дверью». Эта фраза, часто цитируемая, отсылает одновременно к исходной и конечной ставке на творчество в жизни Дюрас, к приближающемуся бесстыдству (прямо заявленному в первоначальном заглавии романа — «Без стыда»), которое, однако, всегда остается на расстоянии и не избавляет ни от позора, ни от стыдливости, непреоборимой сдержанности, прострации перед лицом тайны. Кажется, что стыд пережил и Дюрас-персонажа, и Дюрас-писателя, словно героя «Процесса» К., — по крайней мере, если мы верим галлюцинаторным пассажам из последней ее книги «Вот и всё», ретранслированным Яном Андреа: «Оставьте меня. Кончено. Дайте мне умереть. Мне стыдно. […] Не осталось ничего, кроме стыда, стыда всего. Я больше ничто. Ничто. Я не могу больше быть. Единственное, что не кончено, — это содержание вашей личности».
Единственное, что не кончено, — это содержание вашей личности, это самоизоляция, невозможное бегство, пусть хотя бы на время, в творческую работу. Есть оправдание бытия в бесстыдстве и стыде, телеология бесстыдства в гримасе литературы, которая все-таки тоже маска и которую смерть срывает, придавая наконец личности, ее содержанию, подлинную наготу. Итак, дайте мне умереть. И все прошлые Дюрас — маленькая жительница Индокитая, Маргерит, Тереза времен чистки, — мое изможденное лицо, мое умирающее тело, всё, всё содержание моей личности, объединяющее их помимо моей воли, все это по-прежнему ждет перед «закрытой дверью».
* * *
Жене относится к тайне совсем иначе. Ему, ребенку-сироте, Жану, родства не помнящему, кажется, нечего беспокоиться о взгляде матери или законе отца. Означает ли это, что он изначально свободен от внутренней скованности? Ничего подобного, ибо стыд родился в нем до Меттре, вместе с первым воровским делом, с первой мелкой кражей, совершенной в десятилетнем возрасте. Пойманный на месте преступления, Жене тогда превратился в предмет, принадлежащий другим. Некий Голос прилюдно сказал ему: ты вор. Отсюда предложенный Сартром анализ «стыда маленького Жене», который «открыл ему вечность»: он вор с рождения, вором он и умрет. «Его риск состоял в том, что его назовут», — пишет Сартр в книге «Святой Жене, комедиант и мученик». Именно стыд заставит Жене взяться за перо, и именно стыд ему придется изгонять посредством надругательства.
Жене заранее ответил Сартру: «…Я доволен, что понимание моей необычности носит название антиобщественного явления — воровства»[68] («Дневник вора»). Итак, писателя будет терзать преступник, его тело сохранит стигматы от этих мук. Для него тайное воровство, само признание этой «скрытности» заключает в себе красоту, но лишь при условии, если порог стыда преодолен: «Возможно, вы будете смущены, потому что именно быстрое, очень быстрое и, главное, невидимое движение (но именно в нем — вся суть) делает вора столь презренным: именно тот миг, когда он высматривает и похищает. Увы, это именно то время, которое нужно, чтобы быть вором, но преодолейте этот стыд, прежде открыв и показав его, сделав видимым. Гордость должна уметь пройти через стыд, чтобы достичь славы», — пишет Жене в «Чуде о розе». Иначе говоря, для Жене воровство — пролегомены к литературе, ее подготовительный класс.