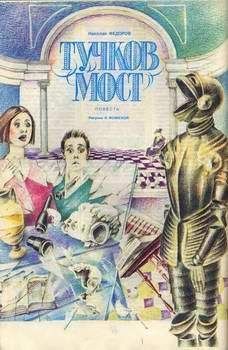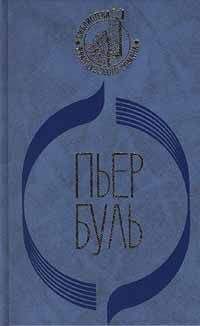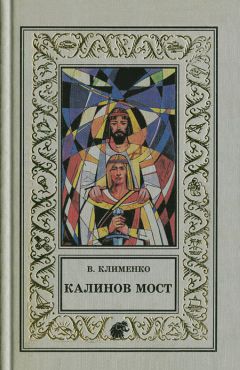Якоб Буркхард - Век Константина Великого
По данному предмету существует обширная и разнообразная литература, куда входит несколько лучших произведений современной историографии; все они рассматривают материал с тех точек зрения, которых придерживались авторы и ожидали их читатели. Поскольку мы ни в коем случае не придаем своей работе значения непреложной истины, что было позволительно, скажем, такому ученому, как Неандр, никто не сможет осудить нашу позицию.
На вопрос, в чем же, наконец, состояла подлинная сила христианской общины к началу последних гонений, нужно заметить, что сила эта заключалась не в ее численности, не в нравственном превосходстве ее членов над прочими и не в совершенстве ее внутренней структуры, но в твердой вере в бессмертие души, которая поддерживала каждого христианина. Мы вскоре увидим, что позднее язычество стремилось к той же цели, но оно шло кривыми, глухими, окольными тропами и не обладало ликующей убежденностью христианства; оно не выдержало бы соревнования с христианством, так как в последнем проблема выглядела значительно проще. Христианство предлагало новое государство, новую демократию, даже новое гражданское общество, постольку, поскольку его можно было сохранить в чистоте, и таким образом вполне можно было удовлетворить тоску античности по политической деятельности, обессмысленную римским принципом власти сильнейшего. Теперь много подспудных честолюбивых стремлений, не находивших себе выражения в римском государстве, удовлетворялись званием епископа общины — так обнаруживался новый простор для самоутверждения. С другой стороны, лучшие и смиреннейшие вступали в общину, ища спасения от римского разврата, продолжавшего цвести буйным цветом.
Одновременно мы находим, что язычество тогда уже пребывало в полнейшем упадке, так что вряд ли оно сумело бы удержать свое положение даже и без появления христианства. Если, например, представить, что Мухаммед провозгласил бы свой фанатический монотеизм уже тогда, без всякой подготовленной христианством основы, средиземноморское язычество точно так же пало бы при первой атаке, как и язычники Ближнего Востока. Старая вера страшно обессилела от внутренних разногласий и внешних примесей.
Государственная религия империи, которую мы примем за точку отсчета, изначально представляла собой смешанный греко-римский политеизм, сформировавшийся в ходе доисторического взаимодействия обоих культов и последующего их слияния. Из круга божеств, связанных с природой, и высших покровителей во всех возможных жизненных ситуациях возник ряд удивительных образов, в мифах о которых античный человек так или иначе узнавал свое собственное подобие. Связь между этой религией и нравственными законами была весьма некрепкой и основывалась по преимуществу на личном мировоззрении. Считалось, что боги вознаграждают за добрые дела и наказывают за злые, но все же их воспринимали скорее как подателей и хранителей жизни, нежели как олицетворения высшей морали. Разнообразнейшие мистерии, существовавшие у греков помимо общенародных верований, — это вовсе не подлинная — суть религии и еще меньше — форма наставничества; это только тайные ритуалы, долженствовавшие добиться у бога особой милости к посвященному. Впрочем, благотворное воздействие оказывали требование чистоты помыслов и оживление национального чувства, выражавшегося в мистериях так же явно, как и в праздничных играх греков.
В противоположность этой религии философия, постольку, поскольку она поднималась над космогоническими вопросами, более или менее открыто провозглашала единство божественного существа. Так открывался путь к высшей религиозности, к прекраснейшим нравственным идеалам, но также и к пантеизму и даже к атеизму, который давал ту же свободу от самих верований. Те, кто не отрицал существование богов, объясняли их пантеистически, как основные силы мира, или же, как эпикурейцы, полагали их бездеятельными и безразличными к миру. Внесли свою лепту и идеи «просвещения»; Эвгемер и его последователи уже давно объявили богов древними правителями, воинами и так далее, а чудеса объясняли рационально, как обман зрения или результат непонимания. Они шли по неверному пути, и впоследствии отцы церкви и апологеты часто впадали в заблуждение, когда опирались на их оценку язычества.
Все это беспокойное многообразие римляне восприняли вместе с греческой культурой, и для образованного человека озабоченность этими проблемами была столь же привычна, сколь и модна. Вместе с суевериями среди высших слоев общества ширилось неверие, хотя подлинных атеистов, по-видимому, было немного. Однако в III веке, перед лицом великих опасностей, неверие заметно увяло, и на первый план вышла все-таки вера, хотя скорее в иноземных, нежели в старых привычных богов. Но в Риме древний местный культ был столь тесно связан с государством, и близкие ему верования настолько укоренились, что неверующий, как и приверженец чужеземных религий, демонстрировал истовую римскую набожность, когда речь шла об огне Весты, о тайных залогах власти, об ауспиках, ибо на этих святынях основывалась незыблемость Вечного Рима. Императоры были не просто Ропtifices maximi (главный понтифик, глава коллегии понтификов в Древнем Риме), совершавшие определенные обрядовые действия, но сам их титул августа означал посвящение, наделение властью и защиту свыше. После того как христианство положило конец обожествлению правителей, уничтожило храмы и жертвенники в их честь и изгнало жрецов, — все, на что в течение трехсот лет императоры имели исключительное право, — суеверие нарекло их daimones, и это была не просто лесть.
Не возникает сомнения, что даже в позднейший период язычества дух греко-римской религии зачастую не могли вытеснить чужеземные божества, не изгнали магия и колдовство, не уничтожили философские абстракции. Этого нельзя доказать потому, что служение старым богам не исключало служения новым, и потому, что в результате смешения божеств, о котором будет сказано ниже, новому могли поклоняться под видом старого — сверхъестественными существами. Но когда мы наблюдаем, как с непреодолимой силой то здесь, то там прорывается присущая здравомыслящему античному человеку наивная преданность богам, бессмысленно отрицать очевидное. «Тебе я служу, — обращается Авиен к Нортии, аналогу Фортуны у этрусков, — я, дитя Вольсиний, я, живший в Риме, дважды почтенный проконсульским званием, преданный поэзии, невинный и безупречный, я, чье счастье составляют моя жена Плакида и мои здоровые и веселые дети. Что же до остального — да будет на то воля судьбы».
В других случаях старая религия и ее взгляды на жизнь продолжают настойчиво утверждать себя, хотя и с некоторыми дополнениями. Вера Диоклетиана, очевидно, носила именно такой характер. Во всяком случае, он вполне доверял этрускам-гаруспикам, которые еще не соперничали, как позднее, при дворе Юлиана, с фокусниками-неоплатонистами; его богом-покровителем оставался Юпитер; оракул, с которым он советовался в делах величайшей важности, был Аполлон Милетский. Его религия и нравственные принципы, как можно судить по его законодательству, ближе всего были к принципам Деция; поклоняясь хорошим императорам, особенно Марку Аврелию, которого он почитал как даймона, он следовал примеру Александра Севера. С другой стороны, можно предположить, что многие составляющие и тайные смыслы древней религии давно уже стерлись и забылись. Полчища римских божеств-покровителей, видимо, можно считать драгоценным антиквариатом, хотя христианские авторы поносят их так, словно те реально имеют какую-то силу. Вряд ли люди еще вспоминали бога Латерана, когда разводили очаг, или Унксию, когда умащались, или Кинксию, когда подпоясывались, или Путу, когда подрезали ветви, или Нодита, видя колос, или Меллонию, разводя пчел, или Лиментина, переступая через порог, и так далее. В умах давно возобладали сложные и обобщенные представления о гениях и даймонах. Многие более ранние поверья сохранили локальный характер.
Так, Греция во времена империи сохранила свою любимую систему местных культов и мистериальных служений. Павсаний, создавший во II столетии описание этой страны, снабдил нас богатым материалом касательно особых культов богов и героев в каждом городе и каждой области, а также касательно их жрецов-служителей. Как посвященный, он умолчал о тайнах мистерий; потомство было бы благодарно ему, если бы он нарушил запрет.
Как всему римскому государству для поддержания его существования требовалось нечто принадлежащее религиозному культу, что-то ритуальное, почему весталки поддерживали священный огонь еще и в христианские времена, — так частная жизнь отдельного человека была насквозь, от колыбели до могилы, пронизана религиозными обрядами. В доме каждого римлянина пир и жертвоприношение были неразделимы. На городских улицах мы увидели бы многообразные процессии и представления, иногда величественные и прекрасные, иногда — просто вакхические оргии, которыми изобиловал греческий, как и римский, календарь празднеств. Бесконечные жертвы приносились в часовнях, в пещерах, на перекрестках, под почитаемыми деревьями. Новообращенный Арнобий рассказывает, какое благоговение он испытывал, будучи язычником, когда проходил мимо дерева, украшенного яркими лентами, или валунов, хранящих следы пролитого на них масла. Из культа, где столь много значит внешнее и зачастую отсутствует внутреннее, сложно вычленить нравственное содержание, и можно даже усомниться, а есть ли оно там вообще. В сущности, не тот ли самый вопрос возник, спустя полторы тысячи лет, касательно празднеств средиземноморских католиков? Звуки вполне земной музыки, прерываемые залпами из пушки, сопровождают Высокую мессу и совершающееся таинство; оживленная ярмарка, обильная еда, всяческое веселье и обязательные фейерверки вечером составляют вторую часть праздника. Не следует пытаться переубеждать того, кто отвергает все это; но не следует и забывать, что внешняя форма не исчерпывает религию и что в разных людях разное пробуждает высокие чувства. Если мы отрешимся от христианских понятий греха и смирения, недоступных античному миру, мы сможем судить о его культе более справедливо.