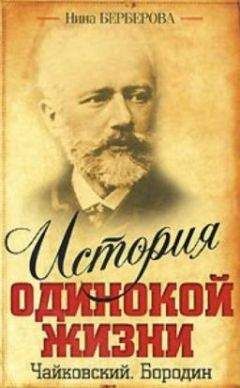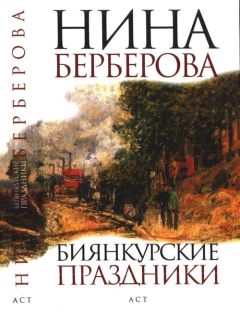Нина Берберова - Чайковский
Деньги, деньги! Теперь Надежда Филаретовна становилась его единственным спасением. Без нее он не может заткнуть рот жене, и она ославит его на всю Россию. И без того страшно показаться туда: Москва ужасает воспоминаниями, в Петербурге — отец, впавший в детство, которому немыслимо объяснить, что произошло. Даже Каменки он лишился (Сашенька пишет, что они всей семьей осуждают его, даже Бэби). Без денег он никогда не развяжется с этим кошмаром. Развод? Но на развод нужна такая сумма! Десять тысяч.
И вот Надежда Филаретовна обещает ему эти деньги. Он пишет ей, что возьмет их только в том случае, если Антонина Ивановна «будет умной», оставит его в покое, согласится на развод и на всю его процедуру. Пока же он будет держать ее под угрозой: за малейшее слово о нем он лишит ее месячного сторублевого пособия.
Каждое напоминание Антонины Ивановны о себе вызывало у него нервный припадок, но в промежутках между письмами он приходил в себя, он медленно возвращался к жизни, к «Онегину». Правда, желание пить и особенно испанское тяжелое вино, которое, как он говорил, успокаивает ему сердечные замирания, это желание в нем было еще очень сильно. Но швейцарский воздух, тишина пансиона, путешествие по Италии смирили его отчаяние.
Анатолий Ильич вернулся к оставленной службе, из Москвы приехал Алеша; брат Модест со своим воспитанником, глухонемым мальчиком Колей Конради, догнал Чайковского в Сан-Ремо, и — к февралю — все вновь вернулись в Кларан.
И опять они были одни во всем доме — сезон здесь летний и в феврале так же пусто, как осенью, и так же тихо и свежо. Колю вечерами укладывали рано спать, с ними оставался Алеша; Петр Ильич с Модестом садились за фортепиано. Возвращается последнее увлечение — «Кармен» Бизе, открываются новые радости — все у тех же французов, которых оба давно предпочитают немцам, «Сильвия» Делиба («А ведь это лучше во сто раз „Лебединого озера“», — говорил искренне Чайковский); играют недавно вышедшего в свет Брамса, но оба холодны к нему; играют опять и опять Шумана, Моцарта. Над кем еще можно так плакать, как над Моцартом? Все проходит. Остается в мире только Моцарт и любовь Чайковского к нему.
Модесту скоро исполнится тридцать лет. То, чего боялся Чайковский, отчасти сбылось: это — двойник, это — верная и немного утомительная тень, которую он все-таки страстно любит — не меньше, чем Анатолия по силе, но более взыскательно, менее слепо. Модест метит в драматурги, но сейчас это уже не страшно: у него есть и другое ремесло. В прошлом году он, предварительно окончив специальную во Франции школу, поступил в дом к некоему господину Конради — миллионеру, москвичу — обучать его глухонемого сына. И вот девятилетний Коля уже начинает говорить и понимает по губам, когда говорят другие.
В одном Модест не годится никуда: в беседах и спорах о музыке. Он во всем соглашается с братом, как с божеством, и вот тогда у Чайковского возникает долгий разговор с Надеждой Филаретовной — разговор музыканта со слушателем. Как она ни верит ему во всем, она часто не согласна с его мнением. Ни Рафаэля, ни Моцарта, ни Пушкина она не любит. Она любит Микеланджело, Бетховена, Шопенгауэра, и музыка для нее «источник опьянения, как вино», «как природа», она ищет в музыке забвения, наслаждения, соединения с чем-то, чего не может назвать: все, на что была скупа жизнь, дает ей музыка — его музыка прежде всякой другой. Он требует от нее, чтобы она оставила эти иллюзии: «музыка, — возражает он, — не обман. Она откровение»…
Она спрашивает его о новой русской музыке: за что и надо ли любить ее? Он отвечает ей длинным письмом — обо всех: о тех, с которыми его сталкивала судьба в течение десяти с лишком лет, от которых он принимал похвалу и терпел обиды:
«Все новейшие петербургские композиторы народ очень талантливый, но все они до мозга костей заражены своим ужасным самомнением и чисто дилетантскою уверенностью в своем превосходстве над всем остальным музыкальным миром. Исключение из них в последнее время составляет Римский-Корсаков. Он такой же самоучка, как и остальные, но в нем совершился крутой переворот. Это натура очень серьезная, очень честная и добросовестная. Очень молодым человеком он попал в общество лиц, которые, во-первых, уверили его, что он гений, а во-вторых, сказали ему, что учиться не нужно, что школа убивает вдохновение, сушит творчество и т. д. Сначала он этому верил. Первые его сочинения свидетельствуют об очень крупном таланте, лишенном всякого теоретического развития. В кружке, к которому он принадлежал, все были влюблены в себя и друг в друга. Каждый из них старался подражать той или другой вещи, вышедшей из их кружка и признанной ими замечательной. Вследствие этого весь кружок скоро впал в однообразие приемов, в безличность и манерность. Корсаков — единственный из них, которому лет пять тому назад пришла в голову мысль, что проповедуемые кружком идеи, в сущности, ни на чем не основаны, что их презрение к школе, к классической музыке, ненависть авторитетов и образцов есть не что иное, как невежество. Само собой разумеется, нужно было учиться. И он стал учиться, но с таким рвением, что скоро школьная техника сделалась для него необходимой атмосферой. Очевидно, он выдерживает теперь кризис, и чем этот кризис кончится, предсказать трудно. Или из него выйдет большой мастер, или он окончательно погрязнет в контрапунктических штуках.
Кюи талантливый дилетант. Музыка его лишена самобытности, но элегантна, изящна. Она слишком кокетлива, прилизана, так сказать, и потому нравится сначала, но быстро приедается. Это происходит оттого, что Кюи по своей специальности не музыкант, а профессор фортификации, очень занятый и имеющий массу лекций чуть не во всех военных учебных заведениях Петербурга. По его собственному признанию мне, он не может иначе сочинять, как подыгрывая и подыскивая на фортепиано мелодийки, снабженные аккордиками. Напав на какую-нибудь хорошенькую идейку, он возится с ней, украшает всячески, подмазывает, и все это очень долго, так что, например, свою оперу „Ратклиф“ писал он десять лет. Но, повторяю, талант в нем все-таки есть; по крайней мере, есть вкус и чутье.
Бородин — пятидесятилетний профессор химии в Медицинской академии. Опять-таки талант, и даже сильный, но погибший вследствие недостатка сведений, вследствие слепого фатума, приведшего его к кафедре химии, вместо музыкальной, живой деятельности. Зато у него меньше вкуса, чем у Кюи, и техника до того слабая, что ни одной строки он не может написать без чужой помощи.
Мусоргского Вы очень верно называете отпетым. По таланту, он, может быть, выше всех предыдущих, но это натура узкая, лишенная потребности в самоусовершенствовании, слепо уверовавшая в нелепые теории своего кружка и в свою гениальность. Кроме того, это какая-то низменная натура, любящая грубость, неотесанность, шероховатость. Он прямая противоположность своего друга Кюи, всегда мелко плавающего, но всегда приличного и изящного. Этот кокетничает, наоборот, своей безграмотностью, гордится своим невежеством, валяет как попало, слепо веруя в непогрешимость своего гения. А бывают у него вспышки в самом деле талантливые и притом не лишенные самобытности.
Самая крупная личность этого кружка — Балакирев. Но он замолк, сделавши очень немного. У этого громадный талант, погибший вследствие каких-то роковых обстоятельств, сделавших из него святошу, после того как он долго кичился полным неверием. Он теперь не выходит из церкви, постится, говеет, кланяется мощам и больше ничего. Несмотря на свою громадную даровитость, он сделал много зла. Вообще, он изобретатель всех теорий этого странного кружка, соединяющего в себе столько нетронутых, не туда направленных или преждевременно разрушившихся сил.
Относительно Н. Рубинштейна Вы почти правы, т. е. в том смысле, что он совсем не такой герой, каким его иногда представляют. Это человек необыкновенно даровитый, умный, хотя и мало образованный, энергический и ловкий. Но его губит его страсть к поклонению и совершенно ребяческая слабость к всякого рода выражениям подчинения и подобострастия. Администраторские способности его и умение ладить со всеми сильными мира сего изумительны. Это, во всяком случае, не мелкая натура, но измельчавшая вследствие бессмысленно подобострастного поклонения, которым он окружен. Еще нужно отдать ему ту справедливость, что он честен в высшем значении этого слова и бескорыстен, т. е. он хлопотал и добивался не узких материальных целей, не из выгоды. У него страсть премировать и сохранять всякими способами непогрешимость своего авторитета. Он не терпит никакого противоречия и тотчас же подозревает в человеке, осмелившемся не согласиться с ним в чем-нибудь, тайного врага. Он не прочь прибегнуть и к интриге, и к несправедливости, лишь бы уничтожить этого врага. Деспотизм его возмутителен очень часто. Все его недостатки происходят от бешеной страсти к власти и беспардонного деспотизма… Когда он немножко выпьет вина, он делается со мной до приторности нежен и упрекает меня в бесчувственности, в недостатке любви к нему. Будучи в нормальном состоянии, он очень холоден со мной. Он очень любит дать мне почувствовать, что я всем ему обязан. В сущности, он немножко побаивается, что я фрондирую. Вообще, будучи от природы замечательно умен, он делается слеп, глуп и наивен, когда в голову ему взбредет мысль о том, что хотят отнять от него положение первого музыканта Москвы».