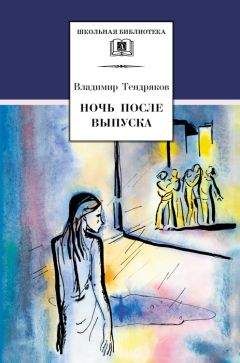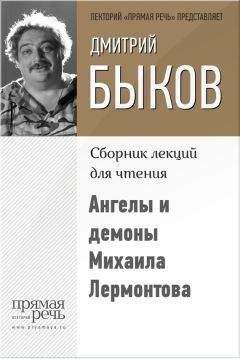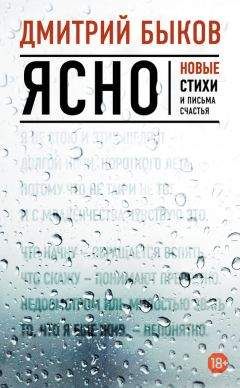Дмитрий Быков - Школа жизни. Честная книга: любовь – друзья – учителя – жесть (сборник)
Виталич был страстным краеведом. Он прошел с учениками за два лета по местам боевой славы 237-й стрелковой Пирятинской Краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии, один из полков которой формировался в Кузедееве. Прошел до самой границы с Чехословакией. О войне ученики узнавали из рассказов ветеранов. И рассказы эти были не приглаженные для праздника выступления, а воспоминания встретившихся однополчан: «А помнишь?..» В ночи, у костра они иногда забывали, что много лет прошло и что чужие люди есть рядом. Вспоминали, что было и как было.
От тех походов осталось много фотографий и почти ничего оформленного в краеведческий материал. Виталий Ильич многое делал и совершенно не умел потом «показать товар лицом». Потому, наверное, и не очень отмечен официальными наградами.
Виталич был лучшим учителем всех времен и народов. Официально такого звания нет. Но каждый из нас дает это звание своему любимому учителю. И оно неоспоримо.
* * *После ледохода на реке начинался бревноход. Если где-нибудь ниже по течению случался затор, бревна перли на берег, часто ломали изгороди в огородах и потом, когда вода спадала, оставались хозяевам. Владельцем любого бревна на берегу был тот, кто его первым возьмет. Позже, по малой воде, на реке появлялись отражатели – узкие, в два бревна, трапы, скрепленные скобами, плавно уходящие от берега вниз по течению почти до середины русла. Они направляли плывущий лес в течение Кондомы, не давая забиться в заводи.
Их обживали рыбаки и ребятишки. У нас был свой отражатель, самый длинный. Он прибивал бревна к противоположному берегу, где впадала Курья. Там работали зэки. Сортировали лес, скрепляли плоты и отправляли дальше по течению. Мы наблюдали, прижавшись холодными мокрыми пузами к горячим бревнам, как мужики орудуют баграми. Они ничем не отличались от других рабочих мужиков. Как-то никогда не заходил при мне разговор, что это за бригада. Слово «зэк» долгое время для меня оставалось чем-то вроде названия профессии: тот, кто ширяет багром бревна на реке. Мы приходили на речку – они уже работали, мы уходили – они еще работали.
Лес перестали сплавлять где-то в 74–75-м, незадолго до моего первого класса. Отражатели летом еще выставляли года три. Одиночные бревна вылизывало течением из укромных мест, и они ленивыми крокодилами лежали в воде. Были и утонувшие крокодилы – в зеленой тине, мохнатые, скользкие… Мы визжали от страха и восторга, наступив или запнувшись о них.
Как-то само собой слово ушло вместе с молевым сплавом.
Вернулось оно ко мне в пятом классе. Виталий Ильич привез нас на Мустаг. Мы шли к подножью своей первой большой горы, на вершине которой до середины лета оставался снег. Все, что рядом, не очень занимало. Смотрели наверх – там снег! Суетились от нетерпения, донимали Виталича вопросами: «А далеко еще? А это сколько по времени? А там жарко или холодно?» И весь этот гомон прервал короткий, тихий, но какой-то испуганный возглас: «Зэки!»
Я искала глазами воду и потому увидела их последней. Вдоль железнодорожной насыпи, через которую мы уже собрались было перейти, шла колонна темных угрюмых мужиков. Молча. Шурша щебнем. Они не смотрели на нас. Только один успел спросить у Виталича: «Курево есть?» Виталич сочувственно развел руками и как-то сокрушенно вдохнул. Выдохнул, когда они прошли: «Знать бы…» Леха нерешительно протянул Ильичу «Приму»: «У меня есть… Догнать?» Виталич засмеялся: «Вот это ты засыпался!» – и забрал пачку. А потом всю дорогу донимал Леху:
– Цибарку-то дать?
Леха перепробовал за время похода все варианты ответа: и отшучивался, и злился, и отмалчивался… «Цибарки» неизменно возвращали нас к зэкам:
– А почему у них только один охранник?
– Конвоир, – поправлял Виталий Ильич. – Да куда они денутся? За побег срок прибавят. Хорошо, если не убьют…
– А почему убьют?
Ильич усмехался задумчиво:
– Шаг влево, шаг вправо… – И переводил разговор на Леху: – Леха, вот тебе конвоир-то прикурил бы!
– Чо я-то опять? Вон у Петьки тоже есть.
– Ну ты, стукач… – толкнул его Петька в спину.
Ильич остановился:
– А что это значит, знаешь?
– Ну, ябеда. А что?
– Да нет, ничего… – И мы пошли дальше.
Но что-то в этом было. В интонации что-то у Ильича было непривычное.
А потом появились новые впечатления, новые слова: курумник, черемша… мы-то ее колбо́й всегда называли. А снег в жару? Какие там зэки? Вспомнили мельком на обратном пути, переходя насыпь.
Потом, после школы, я начну для себя открывать, что живу на земле Шорлага. Непонятное слово Олп, которым называется район в соседнем поселке Малиновка, расшифровывается как «отдельный лагерный пункт». Есть там и район Собачник. Зэков на Курью привозили оттуда. Здесь до сих пор под водой остались сваи и какие-то перемычки от прибрежных сооружений лесосплава. Купаться глубоко и страшно.
А потом будет книжный бум. Будут Шаламов и Солженицын… Но не они мне расскажут самое важное о зэках. Самое важное я узнаю раньше, когда в гонке за словарями куплю однажды «Словарь тюремного жаргона». В нем почти не будет незнакомых слов…
* * *Роза Антоновна вела у нас цветоводство. Она была уже на пенсии, а немецкий в школе вели теперь ее дочери, Ирина и Роза Николаевны. Вообще-то настоящее их отчество Готлибовны, но кто ж это выговорит?
Дочери владели одинаково хорошо как немецким, так и русским. Не знаю, как ее остальные внуки, но мои одноклассники, Пашка и Иринка, мучились со спряжениями немецких глаголов наравне с нами. А вот Роза Антоновна частенько не могла найти подходящих русских слов. «Коровин муж» – самое памятное определение, которое она, забыв слово, выдала ребятишкам на уроке. А в этом классе как раз учился Вовка Коровин. И сначала одноклассники повернулись к нему, недоумевая, почему это он вдруг стал мужем. Довели до слез несчастного Коровина, до крика – ничего не понимающую Розу Антоновну, и только потом кто-то подумал в другую сторону и неуверенно спросил: «Бык, что ли?» И ответ Розы Антоновны: «Бик! Бик! Я-я, бик!» – утонул в общем хохоте.
И вот теперь она вела в Доме пионеров кружок цветоводства. Грузная, круглолицая, вечно с тележкой, сооруженной из рамы детской коляски и цинковой ванны для стирки, она каждый день от весны до осени шла к созданному ею же цветнику у обелиска. Мы помогали ей, но отлынивали, конечно. Весной и осенью, пока учились, приходили чаще, а летом работать никакого патриотизма не хватит. Грядки на своем огороде надоедали – какой уж там цветник? А вот когда нужны были добровольцы в зачет отработки на пришкольном участке, мы без удовольствия, но шли. Без удовольствия, потому что у Розы Антоновны работать надо, не побегаешь и просто так четыре часа вместо отработанных двух в дневник не получишь.
Мы пропалывали цветы у обелиска. У ограды остановилась Федосиха. Долго стояла и молчала. Мы посматривали на нее и пололи. Когда солнце палит, трава не выдергивается, а до конца участка – хоть помри, вольный наблюдатель злит. Вот чего пялится? Цирк ей тут?
– А хорошо, Роза Антоновна, цветочки-то на русской земле растут? – наконец спросила она то, для чего остановилась.
Роза Антоновна встала, недобро посмотрела на Федосиху, потом на нас, махнула на нее, дескать, иди:
– Растут, растут… – и отошла подальше.
– А-а-а… Сколько народу положили, а теперь цветочки садите, – шипела Федосиха. – Будто встанет кто от ваших цветочков.
Федосиху мы знали. Разорется – не остановишь. Не выдержала Людка:
– Теть Лен, ты че совсем? – покрутила пальцем у виска.
Федосиха сбавила обороты, для порядку, типа «русские не сдаются», пробурчала еще: «Немчура проклятая», – и свалила.
– Ага, мамка тебе покажет немчуру. Придешь ты сегодня за молоком, – ворчала Людка, яростно дергая траву.
Но мать Людкина наш праведный гнев не разделила и ругаться с Федосихой не собиралась:
– Дура – она и есть дура.
Людка попробовала еще воззвать к справедливости:
– Ага, а наше немецкое молоко ей нормально пить?
Тетя Варя нахмурилась:
– Вы это бросьте… Тоже мне… русское, немецкое… Мне четыре года было. Я вон от Османа сюда, в Кузедеево, ходила… милостыню просила… И ведь давали. Своих мал-мала-меньше… Кто-то, конечно, – Гитлер подаст… самим же есть нечего… Ой, идите. – Тетя Варя что-то осерчала на нас. – Дураков везде хватает. Роза без ваших соплей понимает. Защитники, тоже мне.
Может, и понимает, но мы-то видели, что Роза Антоновна плакала. Отвернулась к кустам сирени и так и просидела. И «руссишшвайн» мы тоже слышали.
Можно было, конечно, напакостить Федосихе чего-нибудь в огороде. Только ей от этого ни жарко, ни холодно. Она в свой огород заходила весной посадить, потом один раз прополоть, а там – что вырастет.